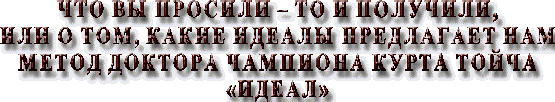|
Сергей Баландин
Эта книга не
философский трактат и не критическая рецензия. Это скорее нечто вроде
письменного Гайд-Парка, где как на старой доброй диссидентской тусовке откровенно
обсуждаются модные темы и параллельно высказывается все, что накипело на
душе. Автор адресует ее всем любителям поспорить и надеется обрести новых
оппонентов, с которыми охотно продолжит разговор. СОДЕРЖАНИЕ
|
|
1.
Считайте себя удачливым. 2.
Не уклоняйтесь от принятия решений. 3.
Любите себя (или, по крайней мере,
постарайтесь себе нравиться). 4.
Любите других (или, по крайней мере,
постарайтесь себе нравиться). 5.
Считайте все достижимым. 6.
Рассматривайте все свои события как
благоприятные. |
7.
Доводите начатое дело до конца. 8.
Живите широко, позволяйте себе
излишества. 9.
Не идите на компромиссы. 10.
Не делитесь ни с кем сокровенным. 11.
Не оправдывайтесь. 12.
Отстаивайте свои права. 13.
Контролируйте услышанное. 14.
Будьте терпеливы. |
С большим
апломбом осмеливается автор выступать в роли некоего законодателя и
установить с человечеством своего рода третий завет. Но между кем и кем? То
ли вместо Бога он предлагает себя? или пытается выступить в качестве Его
пророка?
Эта фраза для
вас, верующие, которую вы сможете прочитать немного впереди, на 161 странице:
«Нам внушали, что только смиренные обретут вторую жизнь. Мы давно пришли к
заключению, что в рай попадают смелые. Вот потому мы так настойчивы. Не
оставайтесь сентиментальными и подавленными. Научитесь быть сумасбродным[и]
и отчаянным[и] при необходимости, хотя общественное мнение может
осудить вас».
Вот как
страстно хотят нас с вами протащить в рай. И для того, чтобы мы стали
достойны тойчевского рая, нам даются эти довольно странные, противоречащие
друг другу и явно богохульные заповеди, где главное, вовсе не вера и любовь,
как учили Христос и Тора: «Учитель! какая наибольшая заповедь в законе? Иисус
сказал ему: «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою
твоею, и всем разумением твоим» (Мф. 22:36-37), (Втор. 6:5 – молитва «Слушай,
Израиль» (Шма, Исраэль). Ибо из этой основной выводятся все остальные
заповеди: «Вторая же подобная ей: «возлюби ближнего твоего, как самого себя»
(Мф. 22:39), (Лев. 19:18). Евреи в своем Законе насчитывают 613 заповедей, но
мудрецы толкуют их все как комментарий к одной главной. Рабби Симлаи (III в.)
проповедовал: «613 заповедей объявлены были Моисею на Синае. Явился Давид и
свел их к одиннадцати, (Пс. 15:1-5) ... Явился Исаия и свел их к шести, (Ис.
33:14-15) ... Явился Михей и свел их к трем (Мих. 6:8) ... Пришел Аввакум и
свел их к одной заповеди, сказав. «А праведный верою своей жив будет» (Авв. 2:4)» [25].
Тому же учит и Апостол Павел: «А что законом никто не оправдывается перед
Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет» (Гал. 3:11). По сути
дела, все мы живем одной заповедью – Верой,
даже самые закоренелые грешники, ибо иначе невозможно. Если мы этой заповедью
не живем, то мы и вовсе не живем, ибо все остальное тлен, реальность, которой
нет, не сущее, суета сует, майя. Что же лежит в основании заповедей Тойча?
Бог? Разум? Категорический императив? Воля сильных мира сего? Сам Тойч? Вовсе
нет. Здесь как бы законодатели мы сами для самих себя. Нонсенс! Будто мы
можем быть своей собственной причиной, своей целью, можем спасти самих себя.
Это и есть не сущее, ибо ничто во Вселенной не существует для самого себя.
Суть его заповедей – любить только себя, все же остальное служит этой цели:
отстаивать свои права, не идти на компромиссы и т. д.
Но давайте по
порядку рассмотрим каждую из них в отдельности.
I
Первая заповедь (стр. 113): «Считайте
себя удачливым». Это для вас, пессимисты-неудачники, сомневающиеся
рефлектирующие интеллигенты – вас призывают уничтожить свое «супер Я»,
заглушить голос совести, чтобы вы никогда не говорили себе: «Я – «плохой»
или Я – неудачник» и «подсознательно не настраивались на еще большие неудачи».
Все ваши беды от излишней самокритичности. «Кроме того, – уверяет
Тойч, – другие, отражающие ваше мнение о себе, будут думать о вас хуже».
Значит, так вам и надо. Не будьте фраерами. «Где же выход?» – задает
нам риторический вопрос Тойч. Давайте риторически ответим: Мы должны обрести
для себя твердую опору. А что делать, если ее нет? – продолжим риторическую
дискуссию. Одно из решений – пойти по пути иллюзий, т. е. уповать на химеры,
как на «трость надломленную, которая, если кто опрется на нее, войдет тому в
руку и проколет ее!» (Ис. 36:6). Иными словами – постараться
сконцентрироваться на своих ничтожных удачах и уверовать, что вы Наполеон.
Вот суть метода Тойча: «Начните жить с настроем на успех. Ассоциируйте
себя с известными людьми. Концентрируйтесь на успехе, пока вы не начнете
думать и говорить о нем, чувствовать его. Любым способом отказывайтесь быть
неудачником и ничтожеством».
Никто не
спорит, что для пользы дела, вера в успех является положительным фактором.
Здесь автор ломится в открытые ворота. Но важно то, на что в своей
деятельности полагается человек. Или на свои исключительно удачливые
качества, которые, якобы, безотказно действуют при любых обстоятельствах, или
же человек полагается на веру в удачливость и правильность того пути и той
цели, которую он избрал. Это второе как раз и есть та Вера, которая
поворачивает горы. Чего бояться человеку, если он верит, что привит на
Дереве, которое не может погибнуть. Это и есть абсолютная уверенность в
удаче. Иисус говорил: «Я есмь Лоза, а вы ветви; кто пребывает во мне, и Я в
нем, тот принесет много плода; ибо без Меня не можете делать ничего» (Ин.
15:5).
«Успех,
– пишет Тойч, – понятие относительное», точно так же Добро и Зло, Грех
и Праведность можно объявить относительными понятиями. Так, без точных
абсолютных критериев, которые дает Вера, мы утонем в море относительности.
Теперь ясно, что все остальные определения, связанные с понятием успех, также
весьма относительны (там же): «И неудачи, когда вы спотыкаетесь и падаете
– это тоже в какой-то мере успех». Отсюда прекрасный вывод (стр. 114): «Поэтому
успех сопутствует вам все время». Так что в любом случае считайте себя
удачливым, (считать никому не возбраняется) пока ваш очередной блестящий
«успех» не окажется самым низким падением, в чем хорошо убеждает нас Библия,
народная мудрость, да и просто жизненный опыт. Умный, как правило, не впадает
в эйфорию, когда какая-нибудь случайная удача сваливается ему на голову, а
относится к ней с тем большим недоверием, чем меньше эта удача зависела от
его собственных усилий. Именно потому, что такие люди не считают себя
удачливыми, им часто удается выходить сухими из воды при самых, казалось бы,
безнадежных ситуациях, а при падениях – падать как кошка на все четыре лапы.
Дурак же, наоборот, и удачи свои обратит себе во вред.
Шапкозакидательские
фильмы и вся ура-патриотическая пропаганда в СССР накануне Второй мировой
войны сделали советских людей несомневающимися в своей правоте и удачливости.
Именно это и было главным фактором поражений на всех фронтах в первые годы
войны. И только тогда, когда народ дошел до отчаяния, он увидел возможность
победы и реализовал ее.
II
Вторая
заповедь – «Не уклоняйтесь от
принятых решений» (стр. 114).
«Мы не научились
(или нас не научили) придерживаться своих решений, отстаивать их и верить в
них» – пишет Тойч. Не знаю как вас, а нас, советских людей, именно этому
и учили. С детства мы только и делали, что принимали торжественные клятвы,
присяги, социалистические обязательства, отречься от которых считалось
преступлением, ведь мы то их принимали добровольно, по собственному
убеждению. А раз так – храни верность до гроба. Тойчу, видно, также чужда
нестойкость убеждений, которая характерна для вечно колеблющихся интеллигентов,
наглядно выраженная упадническими словами Ральфа Эмерсона: «Глупое старание
не впасть в противоречие с самим собой – предмет самых больших забот для
ничтожных душ, ничтожных политиков, философов, богословов. Великой душе оно
не может быть ведомо; это ведь все равно, что стараться придать изящество
своей тени на стене. Говори не колеблясь, то, что ты сегодня думаешь, а
завтра, не ведая колебаний, говори, что будешь думать в этот день, и пусть
это будет полностью противоречить сказанному тобой накануне». [26]
Признаюсь,
что этот декаданс своим разлагающим духом поразил и мою грешную душу. Я
докатился до того, что даже стал расти в неустойчивости своего мировоззрении
прямо пропорционально своему самообразованию. Я даже могу сказать, что стал устойчив
в своей неустойчивости. Я убежден, что устойчивого мировоззрения, веры в
догмы, (не путать с догматами веры, об их отличие см. «Пятое Евангелие», часть
I, Введение) вообще не может быть, ибо, если они претендуют на
устойчивость, это уже иллюзии, даже, если они фактически верны. Они не верны
в принципе, это своего рода паралогизм – суждение, добытое ложным
умозаключением. Но это лишь в теории, обычно же у большинства людей, нас
окружающих, за их так называемыми «устойчивыми убеждениями» скрывается
отсутствие всяких убеждений как таковых. Как часто какое-нибудь изменение
политической конъюнктуры, обнаруживало столь быструю реакцию этих чутких
флюгеров, что приходится только удивляться незаурядным умственным способностям
неофитов. Такой прыти в усвоении всего нового мне явно недостает при всей
неустойчивости моих убеждений. Взгляды мои меняются, но со скрипом. Мой
медлительный ум требует длительного осмысления и переживания новых доводов.
Как же мы
дошли до такой жизни? «Так случиться может с каждым, если слаб и мягкотел!» [27].
«Вот как это может случиться у нас, – предостерегает Тойч, – В один
прекрасный день мы впервые швыряем нашу детскую ложку. Мама улыбается, и ее
улыбка служит для нас одобрением этого поступка. Естественно мы ждем такой
оценки и в дальнейшем. Однако в другой, не такой прекрасный день, нас без
всякого предупреждения ругают и наказывают за точно такой же поступок,
который раньше одобрялся» (стр. 117). Непоследовательность в воспитании и
отсутствие единства взглядов между воспитателями – вот основная причина
появления нам подобных «выродков». Видимо, наш брат изрядно заколебал вас,
твердо «приученных», и ваша тоска по тоталитарному единомыслию мне понятна.
Но, следуя далее по тексту, не совсем понятно, что же от нас здесь требуется?
Либо твердо придерживаться старых, уже принятых решений, либо, наоборот,
уметь принимать новые? Если же вы, господа, еще не научились принимать
решения, то послушайте мудрых советов, которые дает вам Тойч на странице 117:
«…тщательно взвесьте все «за» и «против», не принимайте решения, пока
внимательно не рассмотрите все спорные вопросы. Не принимайте решений
расплывчатых и условных, а решайте точно определенно и окончательно». А
если не хотите забивать себе мозги, вспомните лучше, чему вас учили в детском
саду: «семь раз отмерь – один раз отрежь».
III
Третья
заповедь: «Любите себя»
(стр. 118).
Согласен.
Мудро сказал Ницше: «Любите своих ближних, как самих себя, – но сперва
станьте такими, кто любит самих себя» [28].
Но за что же я себя должен любить? Ах, вот за что. Я, оказывается, могу
пригодиться в качестве полезного винтика в общественном механизме. И даже
обнаружить в себе такие общественно полезные качества, о которых никто и не
подозревал. Ведь и «уран» (стр. 119) «в течении миллиардов лет лежал
глубоко в земле. В словаре Вебстера издания 1903 года он назван
«бесполезным». Однако за последние десятилетия наука сделала уран ценнейшим,
полезнейшим элементом». Если и я вдруг окажусь столь же ценным элементом,
то пусть общество и любит меня за это. Но я не считаю себя дойной коровой. Я
же буду любить себя и без всяких качеств, а только за то, что я живое
существо и у меня есть воля, желания, либидо. «Cogito ergo sum» – сказал
Декарт (я мыслю – следовательно, я существую). А если я дурак? Что же тогда,
я не существую? Нет, я существую именно потому, что хочу существовать т. е.
люблю себя. Я тем и отличаюсь от компьютера, что я хочу – следовательно, существую. Кант писал: «...человек и
вообще всякое разумное существо существует как цель сама по себе, а
не только как средство для любого применения со стороны той или другой
воли; во всех своих поступках, направленных на самого себя, так и на другие
разумные существа, он всегда должен рассматриваться так же как цель».[29]
«Практическим императивом, таким образом, будет следующий: поступай так,
чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице и в лице всякого
другого так же как к цели и никогда не относился бы к нему только как к
средству». [30]
IV
Четвертая
заповедь (стр. 122): «Любите других».
О! Это уже
чем-то напоминает христианскую проповедь. Но Тойч сразу же оговаривается: «Уважать
других (оставим пока слово «любить») для многих чрезвычайно трудно».
Точно! А для меня, грешного, таки порой и невозможно. Если откровенно, то заслуги
некоторых «почтенных» людей вызывают у меня примерно то же ощущение, что у
Антуана Рокантена, рассматривавшего портреты отцов города в Бувильском музее
в романе Жана Поля Сартра «Тошнота» (кто читал – поймет, кто не читал –
догадается).
Истинно великое
ни в каком уважении не нуждается. Странно звучал бы вопрос: уважаю ли я
Моцарта или Баха? Я восхищаюсь ими, я их люблю. Они сумели воспламенить в
душе лучшие чувства, они стали моими, они проникли куда-то внутрь моего
существа. То, что мое – я могу ценить, дорожить им, восхищаться,
наслаждаться, упиваться, благоговеть, но уважать? Уважать или не уважать
можно то, что сравнимо со мной или с кем-нибудь еще, а великое несравнимо.
Оно уникально и самоценно. «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал» – писал о
себе А.С. Пушкин, так как чувства добрые более совместимы с любезностью, а не
с уважением.
Как тот
онегинский дядя, который, «когда не в шутку занемог, он уважать себя заставил
и лучше выдумать не мог», удостаивается лишь насмешки Пушкина, так и всякий,
я думаю, кто стремится к химере уважения, получит в лучшем случае лицемерие,
на самом же деле, будет вызывать тошноту и отвращение, каким бы «хорошим» он
в действительности не был. Этот воевал, этот прожил трудную жизнь, тот
страдал много, у этого террористы убили детей на войне – (наиболее почитаемая
в Израиле заслуга, только за одно это, несчастные родители удостаиваются
чести представлять государство на международной арене, быть принятыми
президентом Соединенных Штатов наравне с премьер-министром), этот хорошо
отстаивал свои права – и теперь за все эти, якобы услуги, которые никто из
нас у них не заказывал, мы обязаны оплачивать свои долги нашим уважением и
повиновением. Что говорить, каждому из нас судьба предоставляет свой жребий.
Несчастные безусловно заслуживают сострадания , счастливчики – восхищения, а
уж уважение, как писал Кант: «не имеет никакой другой основы , кроме
моральной». [31]
В Израиле
поклоняются жертвам Катастрофы как идолам. Клянутся вечно помнить. А что, собственно,
помнить? Хранить в сердце ненависть к нацистским преступникам? Но большинства
из них уже не осталось в живых, значит перевести ненависть на их потомков? Но
они-то в чем виноваты? Или, может быть, все-таки простить людей и осудить
сами преступления? Но здесь-то как раз израильский расизм прямо-таки
стремится стать достойным преемником гитлеровского нацизма. Правда провести
его в жизнь, у израильских ястребов кишка тонка. Эти новые гебельсы в своем
ханжестве лицемерно поклоняются мертвым и при всяком удобном случае, как
хищные звери, готовы растерзать живых, своих ближних.
Ну а кого
уважают в народе? То, что праведники у толпы не в почете, это еще юный Тойч,
как мы помним, открыл. Их уважение – это, чаще всего, подобострастный страх
лакея перед силой его господина. Этот господин, например, пользуется
уважением за то, что занимает определенное общественное положение и, в силу
этого, может оказывать благодеяния другим: помогать, устраивать, давать
рекомендации. Короче, здесь уважением пользуется не столько он сам, сколько
те возможности, которыми он обладает. Возьмите, например, свинью, дайте ей
кучу денег, и она будет тоже обладать капиталом, т. е. теми же возможностями,
как и наш уважаемый господин. От нее (свиньи) теперь также зависит и
благополучие других, тех, кто с ней так или иначе связан и кому она соизволит
оказать свое благоволение. А кому она окажет скорее всего это благоволение?
Да такой же свинье, как и сама, или тому, кто больше перед нею будет
заискивать. Таким образом, образуется цепная реакция, и уже не остается тех
благ, которые бы достигались собственными силами без свинской помощи. Свиньи
становятся хозяевами жизни, и сама жизнь уже милостиво даруется свиньями себе
подобным за свинство. Да и откуда у свиней силы, самим что-нибудь достичь.
Раньше, когда
чернь была нищая, богатство, особенно на Востоке, рассматривалось как
абсолютное зло, а кулаки, мироеды, баи – его олицетворением. Чего, впрочем,
не скажешь о Западной Европе, где преуспевающие фермеры и ремесленники
пользовались повсеместным уважением. Но когда в так называемом третьем мире
стали появляться свои нувориши, их мораль резко изменилась. Характерный
грузинский анекдот о горилле в клетке, хорошо отражает новую кавказскую
ментальность. Там, если помните, хозяин зоопарка полагает такое различие
между понятиями мужчина и самец: «мужчина – это тот, у кого деньги есть, а у
кого их нет – тот самец, вот как этот – в клетке». Уважаемый, если даже у
тебя есть куча денег, отсюда еще вовсе не значит, что ты не самец гориллы.
Почему никому
в голову не приходило уважать животное? Ведь порой они ничуть не хуже
двуногих скотов, а, может быть, даже и лучше – лгать не умеют, не предадут
своего хозяина. Многих «царей природы» оскорбляет теория эволюции,
усматривающая наше происхождение в животном мире. Человек! Ведь это звучит
гордо! Не обижайтесь на Дарвина, благородные! Его теория даже делает вам
слишком много чести. Господь в оценке человека более категоричен: «ибо прах
ты и в прах возвратишься» (Быт. 3:19).
Так что,
господа благодетели, может, я и начну вас уважать, но только не раньше как
после третьего стакана.
А теперь
давайте вернемся к теме любви. Мое убеждение, что наука бессильна дать
логическое обоснование альтруизму. Этика тогда и является преступной наукой,
когда пытается искать основания Добра в самом человеке или в обществе. Она
здесь бессильна доказать что-либо эгоисту, который всегда может наплевать на
интересы общества и сказать: «Наши интересы противоположны, и если у меня
есть сила себя защитить, а у кого-то ее нет, то почему я должен уступать?
Жизнь – это борьба, и в ней выживает сильнейший. Вы же только что учили меня
как преуспеть, спасибо, но вы забыли, что мой успех – это втоптать ближнего в
грязь, а самому возвыситься. Теперь же вы говорите о каком-то равенстве и
глупо ссылаетесь на Декларацию Независимости, а также на то, мол, что считает
большинство людей, неужели не понятно, что это все сказки для слабых, а для
меня важно только то, что есть на самом деле, а не в Декларации. Постарайтесь
доказать мне все это исходя из реальности».
«Очень
просто, – пишет Тойч на 119-ой странице, – математика учит нас, что
если две величины равны третьей, то они равны между собой. Возмем телефон и
лампу. Каким образом они равны? От телефона есть польза. И от лампы есть польза.
Польза и является тем, что делает эти вещи равными. Кроме того, они равны,
потому, что они уникальны. Ни один другой предмет не может служить лампой. то
же самое можно сказать о телефоне. Существует и еще одна причина, по которой
можно считать эти два предмета равными. Эти предметы исключительны. Телефон
не может быть использован в качестве лампы, а лампа – в качестве телефона.
Те же
доводы можно использовать говоря о человеке. Мы все индивидуальны».
Таким вот
«блестящим пассажем», Тойч пытался доказать, что «дворник может быть равен
президенту».
С трудом
поворачивается язык реагировать на этот нонсенс.
Ну, скажем
так: есть понятие «люди», как и все вещи, говоря философским языком, «в
себе», «для себя», «для нас» и, я бы особо отметил, «для Бога». Мы ничего не
знаем о природе вещей в себе (Ding an sich), может быть, они и равны между
собой, а может и нет. Мы знаем лишь только наши ощущения, представления,
чувства, да и то приблизительно. Я могу лишь предполагать, что, скорее всего,
этот человек и на самом деле является таким, каким я его себе представляю. И
это предположение дает мне возможность прогнозировать его поведение. (А разве
фатальная предсказуемость поведения человека не является основой метода
Тойча?) И вместе с тем, я не могу отождествлять понятие о предмете и сам
предмет. (Как часто приходится напоминать современным софистам элементарные
философские истины). К тому же, мы никогда не сможем обладать полной
информацией о человеке. Мы не можем влезть к нему в душу, знать то, что он
знает. Поэтому все наши представления о других людях, в большинстве случаев,
интуитивны. Но из этого не следует, что они не верны. Они безусловно должны
быть верны, поскольку от них зависят наши самые важные решения. Это то, что
называется «разбираться в людях». Эта способность, порой, бывает развита
настолько (например, у цыганок, занимающихся гаданием), что позволяет им
предсказывать судьбу людей, которых они никогда не видели. Тойчу с его
виктимологией до них далеко. Нам, простым смертным, в обычной жизни не требуется
детальных исследований, чтобы узнать человека. Каждый из нас обладает своим
чутьем, благодаря которому «рыбак рыбака – видит издалека». Взять хотя бы
лицо. На нем написано все. Художники в портретах стремятся выразить
внутренний мир человека, что не у всех выходит точно и правдоподобно. Неужели
ты думаешь, что природа в своих портретах может ошибаться или лгать? Просто
мы не всегда умеем, или чаще, не хотим их читать. По лицу практически всегда
можно безошибочно определить человека: к какому классу он принадлежит, его
характер, уровень интеллекта, возможно ли в нем найти единомышленника? Таким
образом, все мы, так или иначе делаем селекцию своих знакомых. А раз так, то
о каком равенстве может идти речь?
Следовательно
в этом качестве, о котором мы лишь способны судить, все вещи (и люди)
существуют только для нас. И здесь действительно у них у всех есть общий
знаменатель – все они суть наши ощущения. Но ведь ощущения бывают приятные и
не приятные, и мы вправе решать, какому из них отдавать предпочтение. Мои
ощущения, например, при созерцании молоденькой девушки и противной старухи,
признаюсь, различны и не равны, а мне, непонятно зачем, предписывают
относиться к ним одинаково. Относиться с уважением к собственному неприятному
ощущению, которое, как меня учат, существует лишь при условии
функционирования моего сознания, которое само вскоре будет стерто неизбежной
смертью, – разве это не абсурд?
Все наши
суждения – само собой разумеется, субъективны, а как же может быть иначе? Кто
из нас может быть объективным судьей? Если бы гений судил олигофрена, он бы
не мог утверждать, что до конца знает его. Вполне возможно, что в этом жалком
на вид человеке скрыты какие-нибудь колоссальные парапсихические способности,
как впрочем, нередко и случается в действительности. Недаром в народе всегда
было почитание юродивых. С другой стороны, мог ли бы олигофрен оценить гения?
Что, например, могла бы понять обезьяна в Гете? Артур Шопенгауэр писал:
«Никто не может видеть выше себя. Этим я хочу сказать: всякий усматривает в
другом лишь то, что содержится в нем самом, ибо он может постичь и понимать
его лишь в меру своего собственного интеллекта» [32].
По-другому мы
можем посмотреть на вещи, если скажем себе: «Мы тоже вещи в себе и существуем
как для себя, так и для других, так и для Бога. И мы также подлежим суду. Как
бы нам самим выстоять перед Его судом. Ведь истинный смысл нашего бытия –
бытие для Бога». Серен Кьеркегор писал: «Но растрачивает себя понапрасну
только сознание, которое столь обольщено радостями и печалями жизни, что оно
никогда не приходит как к решающему приобретению вечности, к сознанию того,
что оно есть дух, Я, иначе говоря, никогда не замечает и не ощущает в глубине
существования Бога или же того, что само оно, это Я, существует ради этого Бога». [33]
Мы можем
сказать себе: «сегодня мое сознание (осознавшее, что оно есть проявление
духа), со всеми его ощущениями размещается в данном материальном теле, а в
другой момент оно может переместиться в нечто иное, например, в ненавидимую
мною старуху, потому, что дух везде
сый и вся исполняяй, и вообще, у нас с ней один общий дух, из одного
Источника, как электричество у двух лампочек, подключенных к одной сети. И не
важно, что одна лампочка горит ярче, другая тусклее, важна не лампочка –
важна энергия».
То, что мы
все лампочки разной мощности, среди которых есть и заменимые, есть и
незаменимые и даже никуда не годные – это ясно и любому дворнику. Хотя мы
знали страны, где кухарки управляли государством, и профессора, как это
убедительно доказали в Израиле, могут успешно заменять дворников, но все же,
объективно они не равны.
Я,
недостойный читатель этого мудреного сочинения, также готов признать свою
духовную немощность перед интеллектом доктора Тойча, но в этом споре я
чувствую себя сильнее, не потому, что считаю себя умнее, а только потому, что
я прав. Трудно профессору идти против рожна и доказывать, что 2 Х 2 = 5, но
ему, видимо, для привлечения больших поклонников необходимо быть
эксцентричным.
Многое в
книге говорит о том, что этот высокообразованный корифей избрал себе
аудиторию читателей с интеллектом ниже среднего. Так он баюкает обывателей
популярной в их среде сказочкой, что все зло – от неправильного воспитания, а
все дети, мол, от природы ангелы: «У ребенка – пишет Тойч (стр. 122) –
как правило, не бывает предвзятых симпатий или антипатий, пока он не
изучит среду, в которой он вращается и людей, его окружающих». Я лично
сомневаюсь, чтобы Тойч, профессор психологии, ничего не знал о психоанализе
Фрейда, о бессознательных инстинктах, об Эдиповом комплексе, о либидо. Не
будучи профессиональным психологом, Артур Шопенгауэр хорошо понимал – что
есть природа человека: «Злому его злоба настолько же врождена, как змее ее
ядовитые зубы и ядовитый мешок, и он столь же мало может измениться, как и
она» [34].
Так, он опровергает тех, кто считает, что разница в характерах «возникает
под влиянием внешних обстоятельств, впечатлений, опытов, примеров,
наставлений и т. д.» следующими аргументами: «На это надо сказать,
во-первых, что в таком случае характер должен образовываться очень поздно
(между тем, на деле он обнаруживается в детском возрасте) и большинство людей
умрут прежде чем приобретут характер; во-вторых же, что все эти внешние
обстоятельства, которым приписывается создание характера, совершенно не
зависят от нашей власти и так либо иначе должны быть отнесены на долю случая
(или если угодно провидения). А если таким образом, из них возникает
характер, из него же далее разница в поведении, то совершенно и целиком
отпала бы всякая нравственная ответственность за это последние, так как,
очевидно, в конечном итоге оно было бы делом случая либо провидения» [35].
Но в чем-то и
Тойч прав. Верно, что обывателям этих тонкостей не понять. А потому Религия
испокон веков учила их просто и ясно, и главное верно – о первородном грехе и
необходимости его искупления.
Религия (и
Тойч) учат нас: «Любите других».
Что это
значит? Религия разъясняет достаточно ясно: не делай ближнему того, чего не
желаешь, чтобы сделали тебе. Так Агада рассказывает про еврейского мудреца
Гиллеля (I век до нашей эры): «Был случай с одним иноплеменником, который
пришел к Шаммаю и сказал: «Обрати меня в иудейство с условием, чтобы ты
научил меня всему закону в то время, когда я буду стоять на одной ноге».
Шаммай прогнал его плотничьим аршином, бывшим тогда в руках его. Тот явился к
Гиллелю, который обратил его, сказав: «Что неприятно тебе, того не делай
ближнему своему, вот и все учение; все же остальное – разъяснения; иди,
учись».[36] Иисус в
Нагорной проповеди учит примерно этому же: «Итак во всем, как хотите, чтобы с
вами поступали люди, так поступайте и вы с ними; ибо в этом закон и пророки»
(Мф. 7:12). Есть здесь маленький нюанс, отличающий одно повеление от другого.
Если учение Гиллеля отрицательно пассивно – «не делай», то учение Иисуса
положительно активно – «поступай». Как часто мы просто игнорируем ближних,
хотя и желаем, чтобы они нам оказывали внимание. И наоборот требуем к себе
повышенного внимания, даже там, где притязания наши не совсем правомерны
(лучшее место в ресторане), но при этом не всегда симпатизируем тем, кто
проявляет по отношению к нам настырность и умение постоять за себя. Почему же
мы сами становимся такими, каких вовсе не любим? Поэтому Иисус требует
относиться к другим так, как будто это не другие, а мы сами, и самим быть
такими, какими бы себя хотели видеть со стороны. В притче об овцах и козлах,
где требуется отношение к ближнему как к Богу Он учил: «И Царь скажет им в
ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих
меньших, то сделали Мне» (Мф. 25:40). Одно, не вошедшее в канон речение
Иисуса Христа гласит: «Ты увидел брата своего – ты увидел Господа своего».
Философия,
основываясь не на божественном откровении, а на чисто эмпирических данных,
исходя из практических интересов человека, приходит к тому же учению. Это
учение Кант назвал «Категорический императив». Он его формулирует так: «Основной закон чистого практического
разума. Поступай так, чтобы максима твоей воли могла в то же время иметь
силу всеобщего законодательства» [37].
Но можем ли
мы реально жить по этому принципу? Получается, что я не могу сыграть с
ближним даже партию в шахматы, иначе я бы желал ему поставить мат, как раз
того, чего бы не желал с его стороны. А разве вся наша жизнь, в лучшем
конечно ее варианте, не большая шахматная партия, где все мы игроки,
соревнующиеся за первенство? Что же делать? На это есть в Библии ответ:
«Итак, едите ли, пьете ли, (иное) что делаете, все делайте во Славу Божию» (1
Кор. 10:31). Играете ли вы в шахматы – во Славу Божию, занимаетесь ли
бизнесом – во Славу Божию, снимаете ли с кого налоги или штрафы – во Славу
Божию. Таким образом, наша природная звериная агрессивность и сексуальность
со всеми их страстями и вожделениями сублимируются и, отвергая свою бренную
плоть, переходят в новое качество – любовь. Любовь и к Создателю, и к себе, и
ко всему Его творению. И сливаясь с Ним в этой любви, мы обретаем спасение и
бессмертие, а наш грешный род человеческий превращается из зверочеловечества
в Богочеловечество.
Но вернемся к
заповеди.
«Возлюби
ближнего твоего, как самого себя» – сказал Господь (Лев. 19:18). Если бы у
любого верующего, пусть даже язычника, мы бы спросили: «А зачем нужна нам эта
заповедь?» или «Почему мы должны придерживаться альтруизма?» Он бы сказал:
«Такова воля Божества, а значит и моя». Как же объясняет смысл этой заповеди
Тойч? На странице 126 он дает ясный ответ на этот вопрос: «Таким образом
вы застрахуете себя и против рака, язвы, инфаркта ... мы сможем надеяться на
мир, свободный от любых болезней и конфликтов». Так, очень хорошо, правда
этот метод не страхует нас от смерти, но зато дает всласть полакомиться
временными благами жизни. Как мы видим, цели этой заповеди (по Тойчу) чисто
плотские. У любви же христианской цель как раз наоборот духовная. Она никогда
не обещала ни страхования от болезней, ни устранение конфликтов, а напротив
призывала нести свой крест в атмосфере гонений и преследований. И я бы
предпочел эту атмосферу тому скотскому «раю», свободного от болезней и
конфликтов, который сулит мне метод Тойча.
Как же могут
два одинаковых пути привести к двум противоположным целям? На самом же деле
здесь никакого противоречия нет. Просто наш софист совершает в очередной раз
подмен термина. Ему следовало бы написать: «Будьте ко всем дружелюбны или
толерантны», тогда бы все стало на свои места, ибо дружелюбие не любовь.
Видимо о Любви, так же как и о Вере, Тойч имеет самые смутные представления,
потому, что Любовь больше Веры (1 Кор. 13:13). «Бог есть любовь – писал
Апостол Иоанн –, и пребывающий в любви пребывает в Боге, Бог в нем» (1 Ин. 4:16).
«Притворная любовь» (стр. 124) – абсурд. Притворная дружественность –
это логично. «Постарайтесь, чтобы они (люди) вам нравились» –
вот суть его заповеди, очередная гнусная ложь самому себе.
В этом
смысле, я не люблю людей, потому что, мягко говоря, они мне не всегда
нравятся, а если откровенно, то по большей части я их презираю. Кто не отдает
себе в этом отчет, тот не искренен и лжет сам себе. Можно лгать другим. В
этом есть иногда смысл. Ложь – преднамеренный обман, блеф, есть форма
насилия, тактический прием в борьбе с врагами. Она может быть использована
как необходимая форма обороны. Можно и врагу сказать: я твой друг, я твой
сторонник, как, например, солгал Хусий Архитянин Авессалому (2-я Царств,
глава 16:16). А разве наша дипломатия – не ложь? И вежливость – не скрытая ли
форма лицемерия? Но она необходима, никто это не отрицает. Все мы в этом
мире, в какой-то степени, Штирлицы, и никогда нельзя знать с каким Мюллером
нам придется столкнуться. Поэтому мы должны постоянно держаться своей «легенды»,
а если и отпускать правду, то маленькими порциями, осторожно: «Не давайте
святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями» – учит Иисус сразу
после заповеди «Не судите, да не судимы будете» (Мф 7:1 и 7:6). Значит, чтобы
понять, что вы имеете дело с псами и свиньями, вы должны их осудить и
возненавидеть. Иисус также учил: «любите врагов ваших». Но прежде вы должны
осознать, что они враги, ибо цель
их жизни враждебна вашей. Не зачем лгать самому себе. Признайтесь, что не
любите своих ближних. Ненавидьте их, если это так. Замечайте в чужих глазах
бревна, если они там есть. И, если вы действительно видите недостатки в
других, вы не можете сказать себе, что их нет. Для чего же еще нам дано
природой чувства антипатии, отвращения, брезгливости, как не для того, чтобы
мы стремились к идеалу? Сказать, что мне все нравится – значит изменить
своему идеалу. Но, увидев бревно в чужом глазу, вы только так научитесь
замечать сучки в своем. Иными словами, если А=В, то В=А, значит можно
сказать: «возлюби себя так, как возлюбил своего ближнего», или «возненавидь
себя так, как возненавидел ближнего». Вот тогда вы превзойдете самого себя,
свое Я. Ваше Супер Эго, ваш Новый Адам будет смотреть на вас, ветхого Адама
еще с большим презрением, чем вы на брата своего. Первое проявление нашего
нового Я есть чувство стыда за собственное безобразие, как раз то, что
стремится искоренить в нас метод Тойча. Но именно с этого момента начинается
наше подлинное бытие. Владимир Соловьев так интерпретирует ответ Адама на
вопрос Господа: «И воззвал Господь Бог к Адаму, и сказал ему: где ты? Он
сказал: голос Твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг, и скрылся»
(Быт. 3:9-10); «я стыжусь,
следовательно, существую, не физически только существую, но и
нравственно, – я стыжусь своей животности, следовательно, я еще существую как
человек» [38].
Ну а что же
предписывает нам Заповедь? «Ведь любовь как склонность не может быть
предписана как заповедь, но благотворение из чувства долга, хотя бы к тому не
побуждала никакая склонность и даже противостояло естественное и неодолимое
отвращение, есть практическая, а не патологическая любовь»[39]
– писал Кант. «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь
не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается,
не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает,
всему верит, всего надеется, все переносит». – писал апостол Павел (1 Кор.
13:4-7). Значит, как бы я не относился к людям, я не могу быть к ним
равнодушен, отгородиться от них, замкнуться в своем горделивом Я, ибо они мои
, а я их.
«Мы с тобой
одной крови» – гласил киплинговский закон джунглей. Он и в наших джунглях
действует, и никто, – ни я, ни Тойч, ни президент – не можем ни нарушить, ни
отменить его, так же как никто не может отменить закон притяжения.
Любовь в
супружеских отношениях – значит тоже нечто иное, чем просто симпатия и
сексуальная страсть. Всякая страсть, какая бы она ни была сильная, не может
продолжаться вечно и со временем переходит в антипатию. Мы начинаем замечать
в наших вторых половинах недостатки, которые нас и досадуют, и раздражают. Мы
видим также, что и нас, в свою очередь, не очень то жалуют симпатией. Видимо,
наши собственные грехи, также, не такая уж тайна. Как на это должна
реагировать любовь? Она прежде всего потребует от нас самопожертвования.
Вместо того, чтобы терзать себя сознанием того, что мы не получаем достаточно
удовольствий от общения с этим человеком, нам бы следовало позаботиться о
том, как бы самим оказаться более приятными для другого, предстать пред ним
лучше чем мы есть, подумать, какие удовольствия мы можем дать своему
партнеру, включая и сексуальные. Мы видим и сознаем свою духовную изнанку,
знаем, что внутри отвратительны – хорошо делаем, но это нужно всячески
скрывать, не представать перед своими ближними откровенными зверюгами, а хотя
бы нацепить фиговый листочек внешней обаятельности. Если мы будем всегда
стремиться представать пред любимыми своими в лучшем свете, то и сами, скорее
всего, не останемся без взаимности.
Говорят: «До
женитьбы я ее любил, она мне казалась ангелом, а потом оказалось, что она
дрянь». Ну что ж, хорошо, что у тебя открылись глаза и ты освободился от
иллюзий, значит теперь ты должен любить дрянь. Борись с недостатками,
наказывай, воспитывай, учи (если у тебя самого есть то, чему хочешь учить),
но оставайся верным. А если нет – ты сам дрянь. Ибо в этом ты клялся и
обещался, давал руку и сердце до гроба; поверив твоим обещаниям, с тобой
связали судьбу, а теперь ты предаешь? Кто ты как не скотина, после этого?
Интересно объясняет этимологию слова «брак» Владимир Соловьев: «...в
этом учреждении человек отвергает, бракует свою непосредственную
животность и принимает, берет норму разума. Без этого великого
учреждения, как без хлеба и вина, без огня, без философии, человечество могло
бы, конечно, существовать, но недостойным человека образом – обычаем
звериным». [40]
Счастливый
брак можно построить при любых условиях и решить практически все конфликты –
все в наших силах, кроме одного обстоятельства – измены. Потому Христос и
запрещает разводы, что брак есть долг, и единственная причина освободиться от
него кроме смерти – измена: «Но Я говорю вам: кто разведется с женою своею не
за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует; и
женившийся на разведенной прелюбодействует» (Мф. 19:9). Поэтому, нравится ли
тебе жена, или не нравится, но она принадлежит тебе, а ты ей. В этом суть любви, как сказано в
эротической Песне Песней: «доди ли ва-ани ло а-роэ бе-шошаним» – этот краткий
библейский шедевр переводится так: «Возлюбленный мой принадлежит мне, а я
ему; он пасет между лилиями» (Песн. 2:16).
Любовь в
семейных отношениях есть чувство собственности, желание господствовать и
подчиняться. Именно так ее понимал и Ницше, когда вроде бы внешне отрицал
любовь в браке, но любовь не настоящую, а любовь как симпатию, свободную от
какого-либо долга. Эта, так называемая «свободная любовь» которая столь
высоко лелеется нашими «свободными» филистерскими поэтами, есть не что иное,
как разврат и распутство, (а еще лучше она называется определенным русским
словом, которое все знают), и ведет именно к разрушению любви, брака, каких
бы то ни было союзов, и толкает ее поборников прямо в пропасть одиночества и
погибели. Так Ницше писал о браке: «Разум брака заключается в его принципиальной
нерасторжимости, – этим он приобретал особую силу, умевшую противодействовать
разным случайностям, вроде чувства, страсти и минуты. (Разрядка моя)
...брак не строят ... на «любви», – его строят на чувственном влечении, на
потребности обладать собственностью (жена и дети являются собственностью), на
потребности господствовать, которая непрестанно создает себе маленький
образец господства – семью, которая нуждается в детях и наследниках, чтобы
физиологически удержать за собою достигнутую меру власти, влияния и
богатства, чтобы готовить длинные задачи будущему, чтобы возбуждать инстинкт
солидарности через целые столетия» [41].
*
* *
На странице
125 Тойч дает весьма оригинальное объяснение причин войны. Оказывается, что
войны происходят из «пагубных эмоций поколений». До этого даже
марксизм не додумался. Но как бы ни воинственна была чернь или велико
недовольство низших классов, войны всегда развязывают именно те, кто
«преуспел» в этом мире.
На странице
128 мы сталкиваемся с «мудрым» изречением о счастье: «Запомните, счастье
не приходит от того, что у вас есть то, что вы хотите, что вы стали тем, кем
вы хотели стать и что вы делаете то, что хотите делать; оно придет тогда,
когда вы научитесь любить то, что у вас есть, себя, каким вы есть сейчас и
то, что вы делаете». Абсурд этой фразы не может замаскировать ее
высокопарность. Упростим суждение: «Счастье не в том, что мы имеем то, что
желаем. Счастье в том, что мы довольны тем, чего вовсе не желаем». Да,
человек может быть счастлив и в плохих условиях, но это не оттого что он их
полюбил. Так узник может жить надеждой на освобождение, больной – на
исцеление, грешник на искупление.
Гарриет
Мартино по этому поводу писала:
«Если мы не
можем сделать добрым, святым то положение, в котором мы находимся, то мы никакое
положение не сделаем добрым и святым.
Затруднения
нашего положения даны нам для того, чтобы мы сгладили, уничтожили их своей
добротой и твердостью; мрачность нашего положения дана нам для того, чтобы мы
осветили ее божественным светом внутренней духовной работы; горести – для
того, чтобы мы терпеливо и доверчиво переносили их; опасности – для того,
чтобы мы победили их нашей верой» [42].
Смысл же
изречения Тойча как раз противоположный. Он призывает нас скорее к
конформизму – не осветить существующее положение, а самому спуститься,
приспособиться (стр. 129): «Ваше сознание соединится с вашим новым
чувством удовлетворения. Продолжайте размышлять, как вы счастливы. Очень
скоро вы почувствуете себя именно таким».
Спускаемся
ниже по тексту, и вдруг, безо всякой связи с вышеизложенным, появляется ряд
педагогических банальностей: «Многие родители, боясь потерять любовь своих
детей, не проявляют в воспитании необходимой строгости». «Только тот,
кто сам научился дисциплине, сможет разумно воспитать других».
Признаюсь как
на духу. В детстве я имел как раз таких воспитателей и очень хорошо понимал,
чего они от меня хотели. Но, видимо я родился с мешком яда под языком,
наверно поэтому, не удовлетворил желаний своих воспитателей, несмотря на все
их искусство, да и сами они ни уважения, ни доверия в моих глазах не
снискали. А если я вопреки всему их и любил, то вовсе не за их
высоконравственные качества.
И еще одно
благое нравоучение для родителей: «Родитель, который действительно любит
своего ребенка, возьмет за основу разумные правила воспитания детей. Он
потребует послушания и применит наказание там, где будет необходимо. Тогда
ребенок с раннего возраста поймет, что он должен заслужить право пользоваться
привилегиями. Он усвоит, что всякий раз, когда он отдает, он должен
получить. Если родитель строг, справедлив и последователен в своих правилах,
то никакой обиды не будет. Ребенок, который знает, чего от него ждут и
почему, будет уважать и любить своих родителей» (стр. 129).
Несколько
странно выглядит сие консервативное назидание на фоне всех остальных
новаторских принципов тойчевского IDEALа. Здесь наш «педагог» как бы забывает
все то, чему давеча нас учил, и предстает перед нами ортодоксальным
защитником старых нравственных устоев, не только игнорируя всю свою науку об
успехе, где предписывается «жать там, где не сеял», но и современные
социальные реалии, основанные на законах рыночной экономики. Он говорит почти
как социалист – «всякий раз, когда ты отдаешь, ты должен получать!» – хорошо
и справедливо, именно то, чему учили на словах коммунисты: «От каждого по
способностям – каждому по труду!», «Нет нетрудовым доходам!». Но когда и кем
эти принципы были реализованы в действительности? Наши благонамеренные
воспитатели требуют от своих питомцев: веди себя хорошо, уважай старших,
приноси пользу обществу. Но питомцы вправе спросить: «А какое воздаяние даст
мне общество за все это?» – Ответ им дает сама жизнь – никакого, наоборот,
чем меньше ты дашь, тем больше получишь, чем наглее будет твое поведение, тем
большим уважением будешь пользоваться. Этому же учит и метод Тойча. Лучше бы
уж он был до конца последователен своим принципам и не опускался до
ханжеского лицемерия. Мы же считаем, что задача учителей и родителей является
не внушение убежденности в якобы существующей всеобщей справедливости, а
воспитание любви к справедливости, осознания необходимости борьбы за
справедливость.
Еще ниже, на
этой же странице, нам объясняют, что же мешает нам быть принятыми обществом и
заводить себе друзей. Оказывается – это паттерн изолированности (то есть то,
что составляет вашу личность). Сломайте его, и вы «увидите, как много
будет вокруг вас дружелюбных людей, когда вы осознаете ваше новое чувство
общительности» (стр. 130).
Ну разве Тойч не прав? Ведь как мы привыкли общаться друг с другом с самого детства? Разве мы хотим обменяться мыслями? Наоборот, тех, кто этого хотел, у нас клеймили различными порицающими эпитетами типа: «демагог», «провокатор», «отщепенец», «изгой», «зануда» и прочими кличками. Если вы такой, то вы быстро будете изолированы. Если вы новичок в чужой для вас компании и хотите вписаться в нее, вы должны прислушаться о чем говорят в этом кругу и постараться петь в тон общего «хора». Тогда вы быстро сделаетесь своим. А если вы хотите стать еще и солистом, лидером, – постарайтесь в нужный момент точно выразить то, о чем думают все.
Здесь я
резюмировал основные взгляды на наиболее модную проблему нашего времени –
общительность. Такие качества, как коммуникабельность, раскованность,
открытость – на сегодняшний день наиболее высоко ценятся в нашем мире.
Давайте же посмотрим, что думали по этому поводу люди, чьи имена в
определенных кругах мира сего не менее высокочтимы и авторитетны, чем Карнеги
и Тойч. Вот что писал, к примеру, Артур Шопенгауэр: «общественные связи
каждого человека стоят как бы в обратном отношении к его интеллектуальной
ценности, и слова «он очень необщителен» почти равносильны похвале: это
человек с большими достоинствами». [43]
«Всякий сброд чрезвычайно общителен; принадлежность же человека к более
благородному разряду прежде всего обнаруживается в том, что он не находит
никакой радости быть с другими, а все более и более предпочитает их обществу
одиночество и таким образом постепенно с годами приобретает убеждение, что,
за редкими исключениями, на свете может быть выбор только между одиночеством
и пошлостью» [44]. Федор
Михайлович Достоевский в письме Наталии Фонвизиной писал: «Быть одному – это
потребность нормальная, как пить и есть, иначе в насильственном этом
коммунизме сделаешься человеконенавистником. Общество людей сделается ядом и
заразой, и вот от этого-то нестерпимого мучения я терпел более всего в эти
четыре года».
«Теперь вы
можете понять, – далее пишет Тойч, – почему у актеров, политических
деятелей, министров так много приверженцев. Они любят людей. И люди, в свою
очередь, любят их».
У Гитлера и у Сталина тоже, как мы знаем, было много приверженцев, чего, кстати, не было у библейских пророков, у Христа, у Лютера, у Сахарова и никогда не будет их у всех тех «парней, которые готовы жизнь отдать за народ». Постоянное пребывание в семье, в коллективе, в кругу друзей, иными словами, в толпе, не делает ли из нас идиотов? У нас нет возможности и на минуту остаться наедине с самим собой, поразмышлять, помечтать, поплакать, мы – неотъемлемая часть толпы, зачем нам «паттерн изолированности»?
Впрочем,
способность приобретать приверженцев или хотя бы находить единомышленников,
сама по себе не порок. Спору нет, это качество может оказаться полезным всем,
поэтому в последнее время появилось так много различных методов, помимо
Тойча, предлагающих свои рецепты как нам решить психологические проблемы
взаимоотношения с людьми. Хорошо, но какой ценой? В основном суть этих
методов, разработанных исключительно доброжелательными людьми, сводится к
следующему: «Скажи нам чего ты хочешь, и мы сможем тебе помочь», – как бы
спрашивают они. Если, к примеру дать такой ответ: «Я хочу, чтобы люди приняли
правду», они не воспримут его всерьез. «Не-ет, – засмеются они, – так не
бывает, ты неправильно хочешь. Ты должен хотеть, чтобы люди приняли тебя,
верно ведь? А для этого ты должен принять ту неправду, которая нравится
людям. Ведь не может же быть так, чтобы ты один шел в ногу, а все остальные –
не в ногу. Вот и перестройся, а мы научим тебя, как выправить шаг». Нет,
спасибо, не курю. Лучше я буду хромать, но нам с вами не по пути.
Ниже, на той
же странице, следуют очень мудрые воспитательные советы, типа: «не
позволять другим обвести себя вокруг пальца» или: «если совет друга кажется
вам полезным, поблагодарите его и воспользуйтесь им. Если нет, то просто
покажите, что вы один знаете что для вас лучше». Давайте же и мы им
воспользуемся – поблагодарим Тойча за нравоучительные наставления и останемся
при своем мнении.
V
Пятая заповедь
(стр. 131): «Считайте все
достижимым».
Абсурд. Это все равно, что сказать «считайте всех евреев христианами» или «считайте себя Папой римским». Либо для вас что-то достижимо, либо нет. Считать тут ничего нельзя. Или вы папа, или вы мама, или вы не знаете кто вы такой. Ну так узнайте, зачем же вам просто считать неизвестно что? В этом случае вы можете сказать: «вероятно, это для меня возможно, дай попробую». Судя по всему, здесь речь и идет о вероятном. Этот принцип в тойчевском контексте скорее следовало бы сформулировать: «Считайте все вероятным», потому, что о Возможном, он и понятия не имеет.
Возможность –
это то, что есть у меня в настоящий момент и при ее реализации становится
необходимо действительностью. Вероятность же есть возможность, которая мне не
принадлежит, а, следовательно, ее реализация от меня не зависит, но я сам
зависим от ее капризов.
Его примеры
просто классически банальны. Почему только он не рассказал популярную притчу
о лягушке, которая выбралась из кувшина с молоком, только потому, что не
знала и не считала это невозможным. Но нечто подобное мы имеем на 132
странице: «есть эскимосы и каннибалы, которые передвигаются на сломанных
ногах. Они не знают, что это невозможно!» Считайте, господа, все
возможным, считайте! Ведь «считать» у нас никому не возбраняется.
Под
«возможным» у Тойча подразумевается отнюдь не прорыв духа из царства
необходимости в царство свободы, путем победы над необходимостью, осознав ее
и увидев в ней множество опций и, таким образом поднимая себя на качественно
новые ступени совершенства. Под «возможным» Тойч понимает лишь количественное
изменение того же плотского состояния – вместо 5 миль пройти 100, вместо 5
тысяч заработать миллион. «Постепенно вы поднимете планку» – пишет
Тойч на 132 странице. Поэтому термин «вероятное» больше бы подходил к
вышеуказанному смыслу.
По этому
поводу хорошо писал Кьеркегор: «Пошлость (обывателей) прежде всего лишена
возможного. ... Лишенный всякого духовного ориентира, обыватель остается в
сфере вероятного, откуда никогда не узреть возможное; Потому у обывателя нет
никакого шанса обрести Бога. Всегда лишенный воображения, он живет внутри
некоего банального итога опыта, полагаясь на течение обстоятельств, пределы
вероятного, обычный ход вещей, и неважно уже, является ли он виноторговцем
или премьер-министром. У обывателя нет более ни Я, ни Бога. Ведь чтобы
обрести и то и другое, нужно, чтобы воображение подняло нас над туманами
вероятного, вырвало нас из его пределов и, делая возможным то, что превышает
меру всякого опыта, научило бы нас надеяться и бояться или же бояться и
надеяться. Однако у обывателя ведь нет воображения, и он не хочет
воображения, даже ненавидит его. Стало быть, здесь нет и спасительного
средства. А если существование порою и помогает ему, посылая ужасы, превосходящие
его пошлую попугайскую мудрость, он отчаивается, иначе говоря, становится
очевидно, что его положение отчаянное, но что ему не достает возможного веры,
чтобы стать таким перед Богом и спасти свое Я перед неминуемой гибелью».[45]
VI
Шестая заповедь
(стр. 133): «Рассматривайте все
события как благоприятные».
А вот этот
принцип как бы пролил эликсир на мою грешную душу. Вот я сейчас сижу, пишу
рецензию на книгу Тойча, что само вызывает у меня сомнение в целесообразности
этой работы, и вдруг я читаю слова (стр. 134): «Вместо того чтобы говорить
себе, что вы впустую тратите время или что эта работа ниже ваших
способностей, осознайте, что вы приобретаете ценный опыт и умение. Примите,
что эта работа именно для вас, и что вы – как раз тот, кто нужен для этой
работы». Какое утешение для израненной души. Примите его к сведению, все
бездарности и неудачники!
Характерный
пример невежества относительно христианского учения обнаруживает Тойч своей
притчей о Персике. Эта притча заслуживает быть процитированной полностью
(стр. 134):
«Нас учили,
– пишет Тойч, – осуждать других за эгоизм. Давайте посмотрим,
действительно ли эгоизм так плох.
Возьмем
для примера семя персика. Когда оно попадает в землю, оно должно выжить, то
есть получить влагу и минералы из почвы. Когда появляется росток, он начинает
бороться с другими растениями, не только за питание из почвы, но и за солнце
и воздух. После успешной борьбы, беря все больше и больше, наше зернышко
становится деревом. И сейчас, наконец, оно может отдавать плоды. Но первые
его плоды очень скудные. Один или два персика – вот и весь урожай. После
этого первого действия, где дерево проявило эгоизм, оно становится более
эгоистичным. Своими корнями оно все глубже и глубже уходит в землю за водой и
пищей, а его ветви тянутся все выше и выше к теплу и свету. Медленно, но
верно наше маленькое эгоистичное семя превращается в огромное дерево, принося
тысячи персиков из года в год. Семена этих персиков, в свою очередь,
превратятся в миллионы персиковых деревьев и принесут биллионы персиков. Без
эгоистичности этого зернышка такая щедрость была бы невозможна!
С другой
стороны, если бы наше зернышко решило не быть эгоистичным и не отнимать у
других всего необходимого для развития, то урожай, в лучшем случае, состоял
бы всего из нескольких скудных персиков. Вы видимо, согласитесь, что в данном
случае персику стоило быть эгоистичным. Эгоистичность не всегда плоха».
Эта притча
имеет прямо-таки евангельский характер. Много ей подобных рассказывал Иисус,
приводя образ плода как критерий праведности:
«По плодам их
узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так
всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит плоды
худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить
плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в
огонь. Итак по плодам их узнаете их» (Мф. 7:16-20). О чем говорит эта притча?
Не о том ли, что мы научились различать добрые плоды у деревьев и не видим,
кто из людей приносит какой плод и часто предпочитаем «терновники»
благородным растениям, как и деревья в притче Иофама (Суд. 9:8-15), когда
терновник был выбран царем. Человеку также невозможно изменить своей дурной
природе, как терновнику стать виноградом. Шопенгауэр писал: «Ожидать..., что
человек при одном и том же поводе один раз поступил так, другой же совершенно
иначе, было бы равносильно ожиданию, что одно и то же дерево, принося этим
летом вишни, на следующее произведет груши» [46].
Можно также
вспомнить Иисусовы притчи о смоковницах (Мф. 21:19), (Лк. 13:6-9). Та же идея
и в притче о талантах (Мф. 25:17), где Хозяин требует от своих рабов
рачительно распоряжаться его хозяйством, с тем, чтобы извлечь больше прибыли
и безжалостно наказывает «не эгоистов»: «Ибо всякому имеющему дастся и
приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет» (Мф. 25:29). И о
семени, которое «упало на добрую землю и принесло плод: одно во сто крат, а
другое в шестьдесят, иное же в тридцать» (Мф. 13:8). Плод – это библейский
образ праведности. «Плод праведника – древо жизни» – говорил царь Соломон в
своих притчах (Притч. 11:30).
«Но ныне,
когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а
конец – жизнь вечная» – писал римлянам апостол Павел (Рим. 6:22).
Что же хотел
доказать своей притчей Тойч? Боюсь, что, сам того не ведая, как раз прямо
противоположное ее смыслу. Его девиз – все грести под себя ради праздного
эгоистического насыщения своей плоти и плоти себе подобных. Но ведь его
зернышко ревнует о своем служении, о своем развитии с целью большей отдачи, а
не просто бесцельного произрастания. Персик ведь не питается своими плодами.
В сущности та праведность, которой учит Библия, есть тот же эгоизм, только
более мудрый, чем тот, который стремится насладиться сиюминутными прихотями.
Отличие
христианского эгоизма от плотского хорошо выражено в Нагорной проповеди: «Не
собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры
подкапывают и крадут; но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни
ржа не истребляет и где воры не подкапывают и не крадут; ибо, где сокровище
ваше, там будет и сердце ваше» (Мф. 6:19-21).
Жертва за
грех есть напоминание, что наша жизнь искупляется кровью. Своим
существованием мы насильственно вторгаемся в этот мир и занимаем чье-то место
под солнцем. Мы хотим жить – и в этом наш эгоизм. Но мы должны осознавать,
какой ценой оплачивается наше существование. Каждую минуту нам в жертву
приносятся миллионы других жизней, судеб, миров. Подумать только, что вместо
меня мог бы существовать кто-то другой, если бы я не оттеснил его своим
эгоизмом при зачатии. Трудно даже представить, сколько сперматозоидов, таких
же потенциальных людей, как и я, погибло так и не соединившись с яйцеклеткой
моей матери. Каждый из них мог бы быть на моем месте. Почему же существую
именно я? Зная все это, разве мы не обязаны как-то оправдать свое
существование? Как? – Эгоизмом. Тем, что мы должны прожить свою жизнь лучше,
чем наши конкуренты. Тем, что мы способны утвердить свою волю и за себя и «за
того парня».
Это положение
уже подтверждается и эмпирической наукой. Так, Раймонд Моуди, собирая
свидетельства людей, побывавших в состоянии клинической смерти, выделял как
общее показание у всех – уверенность в том, что любовь к другим и накопление
знаний (мудрости), являются двумя самыми важными задачами жизни для
приготовления себя к переходу в иное состояние (к смерти). Считайте, что все
мы здесь в командировке, где должны выполнить свою задачу – это тоже можно
расценивать как эгоизм.
Принести плод
– это дальняя цель, она означает исполнить одну из заповедей, данных Творцом:
«да приносим плод Богу» (Рим. 7:4), «чтобы поступали достойно Бога, во всем
угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога»
(Кол. 1:10).
Так
побеждайте во Славу Его этот жалкий мир. Воюйте со всеми за «Царство Божие и
правду Его» (Мф. 6:33). А для этого вы должны обладать сильным духом, то есть
такими качествами, которые пытается изгладить в нас метод Тойча, а именно:
Вера в свои идеалы, огромная воля их осуществить, терпение, выдержка,
осторожность, подозрительность, бескомпромиссность, хитрость, притворство.
Быть способным на все, и именно так, как Уинстон Смит, отвечая на
провокационные вопросы О’Брайена в романе Джорджа Оруэлла «1984»:
«– Вы готовы
пожертвовать жизнью?
–
Да.
–
Вы готовы совершить убийство?
–
Да.
–
Совершить вредительство, которое будет стоить жизни
сотням ни в чем не повинных людей?
–
Да.
–
Изменить родине и служить иностранным державам?
–
Да.
–
Вы готовы обманывать, совершать подлоги,
шантажировать, растлевать детские умы, распространять наркотики,
способствовать проституции, разносить венерические болезни – делать все, что
могло бы деморализовать население и ослабить могущество партии?
–
Да.
–
Если, например, для наших целей потребуется плеснуть серной
кислотой в лицо ребенку – вы готовы это сделать?
–
Да».
И так далее.
Отец веры Авраам, только тем и прославился на века, что был готов не
раздумывая, одним ударом ножа, принести в жертву Господу своего единственного
сына Ицхака, а вместе с ним и весь будущий еврейский народ, и все обещанное
многочисленное потомство, которое должно было произойти от него. Будь он чуть
слабее духом, он мог бы сказать: Господи, возьми мою жизнь, оставь отрока. Но
все, чем жил Авраам – это была воля Господня. В этом именно и есть Вера.
Не менее
категоричен был по отношению к своим последователям Иисус, Он говорил: «Если
кто приходит ко Мне, и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей,
и братьев и сестер, а притом и жизни своей, тот не может быть Моим учеником»
(Лк. 14:26).
Но вернемся к
разбору книги.
Теперь
позитивный оптимистический взгляд Тойча обращен на войну, как нам следует к
ней относиться, можем ли мы найти в ней нечто полезное для себя? Тойч видит в
ней великий позитивный смысл: «Как мы показали в главе 4, даже это
состояние имеет свою цель. Более того, на примере Второй мировой войны мы
видим, что отдаленные преимущества перевешивают нанесенный ущерб. Образование
ООН, индустриализация неразвитых стран, демократизация многих государств,
экономическое процветание, принятие мер по устранению геноцида,
неграмотности, болезней, голода – все эти события принесли пользу миллиардам
людей после этой последней войны. За один только 1957 год атомная энергия,
используемая в медицинских целях, спасла больше жизней, чем разрушила атомная
бомба, сброшенная на Хиросиму и Нагасаки (стр. 135).
Дело в том, что и мы тоже видим в войне определенный смысл, как мы говорили об этом выше, но, правда, несколько иной, чем Тойч. Ошибается Тойч, если думает, что Вторая война велась с целью устранения неграмотности и индустриализации неразвитых стран, а атомное оружие создавалось для лечения раковых заболеваний. У культуры и у медицины свои цели, а у войны свои, их нельзя смешивать, и нельзя также военные цели сбрасывать со счетов как нечто второстепенное. Есть «Время убивать, и время врачевать; время разрушать, и время строить» (Еккл. 3:3). Да, взрывы в Хиросиме и в Нагасаки повлекли за собой многочисленные жертвы и разрушения, а разве конвенциональное оружие не имеет целью жертвы и разрушения, или на иных бомбардировщиках установлены репродукторы, через которые кричат врагам: «Ай-яй-яй, ну-ну-ну!»? Если вы считаете войну справедливой, то побеждайте решительно, и лучше делать это одним ударом, как то сделал президент Трумэн, нежели медленно уничтожать народы перманентной изнурительной войной. На следующей странице Тойч пишет: «…колоссальную атомную энергию можно использовать не в целях разрушения, а в целях созидания». А разве цель разрушения не есть цель? Разве чисто в военных целях атомная энергия является чем-то излишним и бесполезным? Да, многие японцы до сих пор не могут простить Америке этого удара, зато свой милитаризм и фашизм они давно уже забыли и простили. А помнить его не мешало бы. Разве их преступный режим тех лет осуждения не заслуживает? Кто, как не он вынудил американцев пойти на этот крайний шаг?
Ладно, оставим это, все, что ни случается, происходит к лучшему, и Тойч нас в этом постоянно пытается убедить. После 135 страницы, нам уже незачем и не за что бороться, ибо мы теперь все воспринимаем как благо: и войну, и болезни, и дураков, и негодяев, и потерю работы, и повышение цен, и налогов: «…в действительности болезнь – это тоже хорошо...; слова «да он – дурак!» сознание превратит в «я дурак!»...; Потеря работы вместо окончания карьеры может открыть вам двери к большим возможностям...; Цены и налоги могут быть подняты, но вы все равно способны их оплатить...; Итак, все вещи – хорошие». Теперь наше сознание выше этого. Но не подумайте, что мы расстались с плотскими устремлениями и стали философами стоиками, типа Эпиктета, которые думают только о сущем и удовлетворяются только духовными ценностями. Явно не про нас им было сказано: «Если с нами случается неприятное, то мы чаще всего обвиняем в этом других или судьбу. А не думаем того, что если люди или судьба могут сделать нам что-нибудь дурное, то это значит, что что-нибудь в нас не в порядке. Тому, кто живет для души, никто и ничто не может сделать ничего худого: и гонения, и обиды, и бедность, и болезни не зло для такого человека». Напротив, мы теперь способны после всех бед, «радоваться богатству, комфорту, новым возможностям и еще больше, чем раньше». Словом, мы теперь готовы произнести сакраментальную фразу: «Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее!»
Итак, вперед!
Полные оптимизма, мы переходим к следующему принципу.
VII
Седьмая
заповедь (стр. 137): «Доводите
начатое до конца».
Ну вот! Не успели мы подняться до вершин оптимизма, как нас снова спускают на землю и напоминают о каких-то скучных делах, которые у нас не завершены. С чего это вдруг?
В целом, этот
набор 14-ти принципов-заповедей выглядит как случайный список надерганных из
разных ситуаций «полезных» советов, из которых трудно выстроить общую
мировоззренческую линию. Ну, допустим, что основные из этих правил Тойч хотел
направить на общеоптимистическую установку. Они должны видимо помочь человеку
изжить комплекс неполноценности, подменив его химерами. Но к чему здесь
требование – доводить начатое до конца? Может быть для того, чтобы человек
меньше задумывался и оглядывался назад, а жил по принципу из песни Высоцкого:
«Если я чего решил...» [47].
Мы часто делаем такие дела, которые не только доводить до конца, но и
начинать бы не следовало.
Здесь автор
плохо скрывает, что видит в идеале некоего робота (стр. 138): «Так как
шаблон, установленный нашим разумом, похож на русло, направляющее реку в
океан, потребуется значительное усилие, чтобы направить этот поток в нужном
направлении. Следовательно, надо настраивать себя на то, чтобы доводить все,
что вы делаете до конца. Начните с мелочей, подобных написанию письма или
стрижки газонов. Заканчивайте все, что раньше вы могли оставить недоделанным».
Надо
заметить, что шаблонность – это болезнь американского общества. Лучшее
лекарство – духовность, не модное затасканное слово, а свобода духа, от каких
бы то ни было внешних влияний. Тогда вы не будете рабом никакого «русла», а
во всех своих действиях будете руководствоваться собственным разумом и даже
действовать по вдохновению Разума Высшего.
Перейдем к
следующему принципу.
VIII
Восьмая
заповедь (стр. 139): «Живите
широко, позволяйте себе излишества».
Вот он, идеал
Эпикура! И действительно. Мы рождаемся один раз, разве мы не созданы для
блаженства и удовольствий? Жизнь плюшкиных унизительна. Представьте себе, что
и Христос это же имел ввиду, когда учил: «Взгляните на птиц небесных: они не
сеют ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не
гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту
хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии,
как они растут: не трудятся не прядут; Но говорю вам, что и Соломон во всей
славе своей не одевался так, как всякая из них; Если же траву полевую,
которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми
паче вас, маловеры!» (Мф. 6:26-30). Что это? Проповедь беспутной жизни? Нет,
это предварение Царства Божия на земле. «О горнем помышляйте, а не о земном»
(Кол. 3:2). Владимир Соловьев писал: «Кто прямо отдается всемирной будущности
и уже предваряет ее идеально, тот вправе ссылаться на евангельскую
беззаботность. Для подражания лилиям нужно иметь их чистоту и для подражания
птицам нужно иметь высоту их полета. А при недостатке того или другого,
житейская беззаботность может уподобить нас не лилиям и птицам небесным, а
разве лишь тому животному, которое в своей беззаботности о будущем не только
подкапывает корни благодетельного дуба, но при случае вместо желудей пожирает
и свои собственные порождения» [48].
Сам же Иисус не
вел аскетический образ жизни. Он почти всегда был среди людей, в самой гуще
событий. Он посещал синагоги и ходил на праздники в Иерусалим. Он любил
присутствовать на свадьбах и просто на пирушках различных компаний, за что и
был порицаем фарисеями: «зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками?»...
«почему ученики Иоанновы постятся часто и молитвы творят также и фарисейские,
а твои едят и пьют?» (Лк. 5:30 и 5:33). Он с легкостью платил все налоги: и
динарий кесарю (Мф. 22:21), и статир на Храм (Мф. 17:27). Он мог Себе
позволить и активное сопротивление злу: «И сделав Бич из веревок, выгнал из
храма всех, также и овец и волов, и деньги у меновщиков рассыпал, а столы их
опрокинул» (Ин. 2:14-15). Он мог досыта накормить многотысячную толпу, (Ин.
6:5) и просто давать милостыни и помогать одиноким людям (Лк. 18:35). Главное
в Его учении это счастье. 8 заповедей блаженств открывают Нагорную проповедь,
первая из которых: «Блаженны нищие духом». Поповская экзегетика представляла
это понятие как нищих умом, наподобие тех, кто верит, что змея не кусается.
Но современная герменевтика доказала, что понятие «нищие духом» (анией руах),
подразумевает только материальную бедность, которая является духовной
сущностью человека, как внутреннее освобождение от пристрастий к мирским
благам (независимо от того владеют они ими или нет). Именно в этом контексте
анией руах встречаются в кумранских текстах. Максим Исповедник писал: «Не
богатство само по себе зло, но пристрастие к нему и плохое использование» [49].
Тойч же
комментирует свой принцип так (стр. 140): «Внушите себе, что вы богаты.
Если вы не можете поверить, что у вас много денег, думайте о тех миллиардах
долларов, которыми владеют самые богатые люди в мире. Поставьте себя на их
место; учитесь чувствовать, думать и действовать как они».
Исключительно
духовный принцип, не правда ли? Ведь он дает возможность жить широко в нашем
воображении, оставаясь меркантильным скупердяем в реальной жизни. Он – для
«нищих не по духу», создает им прекрасную иллюзию собственной значимости.
IX
Девятая
заповедь (стр. 144): «Не идите на
компромиссы».
В этой главе
говорится в сущности о том же, что и в предыдущей, разве что здесь нам
предлагают не ограничиваться несбыточными мечтами о миллионах, а уже избрать
пределом своих устремлений весьма конкретную цель – заняться комиссионной
торговлей (стр. 145): «Если до этого вы жили на четко определенную
ежемесячную зарплату без каких – либо дополнительных доходов, внезапный
переход на должность комиссионного торговца будет таким же бессмысленным, как
прыжок в ледяную воду без предварительной подготовки. Попробуйте сначала
торговать по полдня, по совместительству с основной работой, пока ваше
сознание и уверенность в способности заниматься этим делом не окрепнут; затем
можно бросить прежнюю работу и полностью заняться торговлей».
Дерзайте,
друзья. Я могу вам даже предложить конкретное дело. – Займитесь-ка, например,
«Гербалайфом», а если вам очень повезет, может быть, вы даже станете
владельцем пивного ларька! Но если вы пока еще не принадлежите к этому почтенному
классу и у вас нет лавки, приносящей вам постоянный доход, – ничего, Тойч
советует вам подготавливать себя психологически, учиться думать, как торгаши,
усваивать их манеры и привычки. Прежде всего вам необходимо избавиться от
«позорных» интеллигентских предрассудков жалких служащих, привыкших жить на
свою зарплату. Поэтому, есть у вас деньги, или нет, «Настаивайте на лучшем»
(стр. 144), «Всегда пользуйтесь первым классом. Учась всегда и во всем
пользоваться первым классом, вы заставляете разум обеспечивать вам
соответствующее положение на работе, в общественной жизни им даже дома. Вы
сможете получить любую зарплату или вещь, которую хотите. Если ваше
подсознание научит вас не довольствоваться малым, оно даст вам самое лучшее»
(стр. 145).
Однако интеллигенту должно быть стыдно пользоваться предметами роскоши. Я подразумеваю под роскошью то, что не имеет никакой практической пользы в повседневной жизни, а лишь тешит тщеславие и гордыню, ублажает воспаленное эго. Я вовсе не за то, чтобы отказываться от автомобилей и ходить пешком, отказываться от компьютеров и писать ломаными перьями на плохой бумаге. Разумный человек должен стремиться к комфорту. Если профессионал хочет в своем деле достигнуть наилучших результатов, то он позаботится приобрести для этого наиболее удобные и совершенные инструменты. Но хотелось бы знать, какому благу служит бриллиантовое колье на какой-нибудь старой крысе, составляющее безвкусный контраст с дурными отталкивающими чертами лица, с уродливой жирной фигурой? Я понимаю, когда бриллиантовую диадему надевает на себя четырнадцатилетняя королева красоты, с которой Сам Бог велел снять все до ниточки и оставить в одной диадеме. Как слова поэта – суть дела его, так и красота – дело вполне самодостаточное, ведь красота физическая, как правило, выражает красоту духовную – чистоту, невинность, счастье, любовь. Человек духовно красивый, но имеющий некрасивое тело, по крайней мере, не будет его украшать, тем самым выпячивая его на показ. Духовные же уроды, тщательным уходом за собой, роскошью, и прочим хотят подчеркнуть – как они «много стоят», как они себя любят, насколько у них больше прав вкусно кушать, чем у остальных жалких миллионов обездоленных простачков, не достойных ни куска хлеба, ни человеческого уважения. Стыдно это, господа.
X
Десятая
заповедь (стр. 146): «Не делитесь
ни с кем сокровенным».
«Вы ведете
войну», – пишет Тойч. «Вы – главнокомандующий, ответственный за
долгосрочную стратегию и тактику конкретных шагов. Вы также начальник службы
безопасности, заботящийся о предупреждении, разоблачении и, если понадобится
устранении шпионов. И, в конце концов, вы являетесь солдатом, осуществляющим
план, разработанный вами».
Так вот
образно описывается наше отношение с окружающим миром. Значит, образно
говоря, нас со всех сторон окружают враги, ну, если и не враги, то уж, по
крайней мере, соперники и конкуренты или же, на худой конец, партнеры по
игре, перед которыми мы, несмотря на всю нашу христианскую любовь по
отношению к ним, не должны раскрывать все наши карты. Это и ежу понятно. Но
погодите! Здесь, оказывается, не все так просто. Кто же наш самый злейший
враг? Это мы сами, господа. Да – да. Это, прежде всего, мы с самими собой
ведем войну, как пишет Тойч: «войну со старыми привычками и понятиями,
имеющими к вам отношение, укоренившимися в вашем сознании...».
Так что
меньше-ка болтайте сами с собой, меньше медитируйте. Не к добру это. «Молчание
– золото, – пишет Тойч (стр. 149), – Насколько молчание духовно,
настолько и материально. Его можно измерить с точки зрения физики». – Это
вам, материалисты. Духовное молчание превратит вас самих в материю, твердую и
несгибаемую.
Помнится, в
начале книги Тойч утверждал, что мысль – это энергия, подразумевая при этом
идеи, высказанные публично, наперекор сложившемуся общественному мнению. Я не
знаю, можно ли «материю» идей «измерить с точки зрения физики», но
теперь же наш материалист пишет совсем иное: «Невыраженная мысль содержит
больше энергии, чем фраза, высказанная вслух…». Так что, господа
изобретатели и рационализаторы, эдисоны и райты, на сей раз Тойч дает вам
такой совет: «Чтобы быть уверенным в том, что ваши слова не вызвали
противоположной реакции, не раскрывайте рта. Пусть ваши достижения будут
драгоценными бриллиантами в короне на вашей голове – голове победителя».
Впрочем, неплохо было бы, если «IDEAL» Тойча остался бы «в короне на голове
его изобретателя».
XI
Одиннадцатая
заповедь (стр. 149): «Не
оправдывайтесь».
«Привычка
оправдываться наверняка идет со времен Адама», – пишет Тойч. «Даже
если вы не верите в Библию, в этой истории есть большой смысл. Когда Бог
спросил Адама, почему он съел запретный плод, тот не стал ходить вокруг да
около и обвинил в этом Еву. «Она дала его мне», – сказал он. Вспомните, Ева
не заставляла его взять яблоко насильно. Она просто протянула его Адаму. Как
бы то ни было, его оправдания не принесли ему большой пользы. Точнее не
принесли ее совсем. Он все равно был изгнан из рая».
Интересная экзегетика, не так ли? Единственно, что здесь верно – это то, что свой смысл Библия не теряет от того верите ли вы в нее или нет. «Верите ли вы в Библию?» – это самый пустой вопрос, какой только может быть. Важно то, как вы понимаете и принимаете Библию. Если вы понимаете ее так, как Тойч, да еще и верите в это, то лучше бы вы и не верили.
Как и в любой сфере человеческой деятельности, так и в богословии также были и великие умы от Бога, а также и серость и бездарность. Последние всегда держались фундаменталистских позиций. Имя им – легион, их всегда было абсолютное большинство, стремящееся Живой Источник вечно обновляющейся Мудрости, постоянно наполняющий сознание людей в виде Откровения, превратить в стоячее болото рутины и лжи, которое у них хватало наглости называть «верой». Именно в этом пророк Иеремия обвинил свой народ от лица Всевышнего: «Ибо два зла сделал народ Мой: Меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды» (Иер. 2:13). Всякое слово, какое бы мудрое оно ни было, требует экзегетики, т. е. толкования и переосмысления в развитии в соответствии с меняющимися условиями жизни. Иисус в апокрифическом Евангелии от Ессеев говорит: «Не ищите закон в ваших книгах с писаниями, ибо закон есть жизнь, писания же мертвы. Бог писал эти законы не на страницах книг, а в сердцах ваших и в духе вашем. Ибо истинно говорю вам, никакой пользы вам нет от изучения мертвых писаний, если на деле отвергаете вы Того, кто дал вам эти писания».
Основатель квакерства Джон Фокс учил: «истина заключается не в книгах, а в сердцах людей, ее следует искать не в официальных вероучениях различных церковных вероисповеданий, а во внутреннем свете, озаряющем человека». Его последователь Роберт Баркли не считал воплощение и искупление, совершенные Иисусом Христом, историческими фактами, а идеальными образами того, что происходит в душе каждого верующего, когда он внутренне соединяется с Христом, и из сына противления и погибели постепенно превращается в возлюбленное чадо Бога.
Всякое изреченное слово – ложь, особенно если вы не подкрепляете его делом. – Этот всем известный трюизм всецело относится к оценке пророчеств, которые, даже если и имели своим источником Откровение Трансцендентного, все же всегда страдают приблизительностью, иносказательностью, несут на себе печать апперцепции, то есть бытия + характера той личности, которой это Трансцендентное было открыто. Ибо невозможно адекватно выразить трансцендентное нашими ограниченными конвенциональными словами. Да и сами пророки не отрицали аллегорическое значение своих слов. Ограниченные возможности слов и их условный относительный характер ясно выразил Ницше: «Слова являются звуковым выражением понятий; понятия же суть более или менее определенные образные знаки для часто возвращающихся и совмещающихся ощущений, для групп ощущений. Для того, чтобы понимать друг друга, недостаточно пользоваться одними и теми же словами; надо еще обозначать теми же словами один и тот же вид внутренних переживаний, надо иметь с собеседником общий опыт» [50].
Лучшие христианские богословы и даже авторы Библии понимали библейские сказания как миф. «Бог верен, а всякий человек лжив» – писал апостол Павел (Рим. 3:4), как бы повторяя парадокс критянина Эпименида (все критяне лгуны). Но миф не есть искажение действительности, а «образ непреходящей истины» – как его понимал Александр Мень и многие другие интеллектуальные богословы. Библейская история для них не история как наука в современном понимании, а метаистория. Ее цель не столько донести до нас определенные исторические факты, как выявить через них внутренний их смысл – действие Провидения, которое присутствует во все времена и в любом месте. Это своего рода исторический идеализм, который хочет проникнуть в то, что лежит за фактами, народная интуитивная метафизика. В библейском повествовании всегда за реальной жизненной ситуацией скрывается назидательный смысл, проникновение в который было сакральным актом приобщения к истинно духовной реальности, в то время как обыденная реальность становилась иллюзорной.
Отцы Церкви также видели в Библии прежде всего философию. Ориген писал: «Ужели одним только грекам возможно провидеть свои философские взгляды в прикровенной форме, или может быть, также и египтянам и другим варварским народам, которые похваляются тем, что в их мистериях (скрывается) истина» [51]. О священном писании Ориген пишет так: «Из чтения книг пророческих, в которых предметом описания хотя и является история, но не в форме связного исторического рассказа, можно вынести убеждения, что все эти исторические отрывки записаны для того собственно, чтобы можно было толковать иносказательно» [52]. В другом месте Ориген говорит о нашем Адаме: «Известно, что еврейским словом Адам, обозначается человек и что Моисей выражается вообще о человеке там, где у него по-видимому, идет речь об Адаме как отдельной личности. Ведь в Адаме, как свидетельствует Писание, все умирают (1 Кор. 15:22) и все осуждены подобно преступлению Адама (Рим. 5:14), так, что Божественное Писание в данном случае говорит не столько об одном человеке, сколько обо всем вообще роде (человеческом)» [53].
Кто же такой
в действительности этот Адам? Адам – это все мы с вами и каждый из нас в
отдельности. Разве все мы не проектируемся изначально Создателем идеальными
Адамами? Разве все мы не переживаем свое личное грехопадение? Апостол Павел
писал: «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием; но в
членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий
меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих» (Рим. 7:22).
Адам – это
внутренний человек, может быть, то энергетическое тело, о котором сейчас
модно говорить, наш проект, который положил Господь в основу нашего
строительства. Но плотский Адам напоминает здание, построенное
халтурщиками-шабашниками. Хотите, называйте его душа или Атман – все суть
одна идея.
Давайте все
же дословно вспомним, что говорит библейский текст об Адаме. В книге Бытие, в
главе 3 и стихе 12 написано: «Адам сказал: жена, которую Ты мне дал, она дала
мне от древа, и я ел». Библия, как мы видим, вовсе не рассматривает эти слова
как оправдание и вообще сам ответ Адама никоим образом не порицается, иначе
об этом было бы непременно сказано прямо, как, например, о Каине; да и во
всех иных местах, где описываются грехи и преступления. Библия – вообще очень
прямая книга: что хорошо – то хорошо, что плохо – то плохо. Этические оценки
никогда не замаскировываются. Что же значат эти слова Адама? Это, скорее,
есть анализ происшедшего. И ведь, Кому сказал Адам эти слова? Своему Отцу
Небесному, своей Совести. Он сознался, что пал жертвой Диавола. Диавол – это
соблазн. Соблазн – это женщина (или мужчина, если вы женщина или гомосексуалист),
наши сексуальные вожделения. Адам как бы сказал в себе: «Да, я понял что
произошло. Я забыл про тебя, Отче, я поддался своей минутной страсти». Видимо
Адам тогда понял то же, что и царь Соломон: «И нашел я, что горче смерти
женщина, потому что она – сеть, и сердце ее – силки, руки ее – оковы; добрый
пред Богом спасется от нее, а грешник уловлен будет ею» (Еккл. 7:26). И в
этом было его Покаяние, которое и было условием Искупления его греха.
Сознавая это, он и сам не мог больше оставаться в Раю. Он теперь должен со
«скорбью питаться от плодов земли, в поте лица есть свой хлеб», и «сотворить
достойный плод покаяния» (Мф.
3:8).
Всем ясно –
то искусство оправдания и придумывание оригинальных алиби,
которые имеет в виду Тойч, ничего общего с Покаянием не имеет.
Очень верная
мысль о наследственной привычке оправдываться, высказывается на странице 152,
хотя здесь Тойч вовсе не оригинален. Эта привычка всегда считалась уделом
холопского сословия и позором для чести благородного человека. Но не подумайте,
что этой максимой Тойч заботится о нашей чести. О ней ни слова. Зато взамен
нее, нам сулят множество других преимуществ (стр. 154): «Перестав
оправдываться, вы измените свою жизнь. Вы приобретете уверенность в себе. Вы
перестанете опаздывать. Вам начнут доверять, у вас улучшится настроение, и вы
будете довольны собой».
Не знаю.
Где-то, может быть, и да, а где-то, может быть, и нет. Советские диссиденты
на допросах в КГБ не только не оправдывались, а порой и стремились взять на
себя даже те «дела», которые не совершали, но следователи почему-то от этого
им больше доверять не стали.
XII
Двенадцатая
заповедь (стр. 154): «Отстаивайте
свои права».
Прекрасный пример с порнографической картинкой, будто бы поднявшей голоса многих поборников свободы нравов против тех ханжей, кто ночами не спит из-за того, что кто-то в этот момент наслаждается созерцанием голого тела. Не знаю как в Америке, но в России – ни порнография, ни выступления диссидентов так и не смогли разбудить воли рабов к свободе.
На странице
155 Тойч пишет:
«Многие из
нас боятся отстаивать свои права». Но почему? Я думаю, что причина
заключается не в подражании родителям и не в особой кротости окружающих нас
людей. Как раз большинство из них не упустит случая урвать что-нибудь в свою
пользу. Дело в том, что «своих» прав не бывает. Бывают права вообще, одни для
всех. Поэтому, защищая такие права, даже если мы в них и лично
заинтересованы, мы, тем самым, защищаем права вообще, а значит и права
других. Но большинство людей с этим смириться никак не может. Им ни в коем
случае нельзя отпускать права на волю. В них они видят анархию и
несправедливость. Фемида ведь слепа, она не знает, кто «достоин» ее
покровительства, а кто нет. Какой «рай» был в Советском Союзе, когда все за
нас решали администрация, партия, профсоюз: кому первому дать путевку или
квартиру, а кому не дать. Вот когда правозащитники школы Тойча могли бы
заставить с собою считаться. Они-то уж не смолчат там, где надо, и свое
возьмут, и чужое прихватят.
«Мы
научили, – пишет Тойч на странице 159, – добиваться выделения
территории под парк, выбора места в ресторанах, продвижения по службе и
многому другому».
Даже не
пройдя сего курса, наши дети много преуспели в этой науке, когда, садясь в
автобус, расталкивают локтями старших и занимают лучшие места. Учить их
искусству отстаивать свои права – все равно, что учить рыбу плавать. Если
среди современного поколения еще и сохранились благородные души, то они
должны тщательно скрывать себя и притворяться наглыми. Самое высокочтимое в
нашем обществе качество выражается модным английским словом – assertance
(самоутверждение) – не что иное, как наглость. Не обладать им – значит быть
«фраером» – самое позорное, что только может быть. Синонимами этой позорной
клички в разных группах черни могут быть: «ашкенази» – у сефардских евреев,
русский – у всех национальностей бывшего СССР, белый господин – у всех не
белых, а также интеллигент, профессор – даже в среде, так называемой,
израильской интеллигенции. В самой же России ничто не вызывало большего
раздражения, чем обращение «господин» потому, видимо, что оно напоминало о
тех «фраерах», для которых самоутверждение, по крайней мере, неприкрытое,
считалось дурным тоном. Эти господа имели когда-то реальную власть, но своим
обращением: «ваш покорный слуга», как бы давали понять, что готовы
поступиться своими правами в пользу ближнего, и далеко не всегда это было
лицемерием или чисто формальным этикетом.
У меня же
явно не достает знаний этой «прекрасной» школы, так как мой опыт
правозащитной деятельности чаще всего заканчивался провалом и не находил
понимания у окружающих. Так, например, в своем коллективе преподавателей
школы, где я работал, я внес предложение на педсовете пересмотреть принципы
распределения нагрузки преподавателям. (У педсовета было такое право). Дело в
том, что распределение нагрузки тогда находилось целиком и полностью в
ведении администрации, и ничто, ни просьбы преподавателей, ни желание
учеников и их родителей не могли ни повлиять на них, ни изменить их решения.
Я же предложил оставить за администрацией ее функцию распределять нагрузки по
ее усмотрению, но с учетом заявлений учеников и их родителей, и не отказывать
их просьбам без достаточного основания. (То есть отказ должен быть
аргументирован не просто тем, что «мы так решили»).
Естественно,
что администрация не хотела уступать своих прав и предоставлять «юрьев день»
крепостным ученикам в своей вотчине, тем самым, сохраняя абсолютный контроль,
как над учащимися, так и над педагогами. Ну а что же коллектив? Естественно,
что большинство мое предложение не поддержало. Тогда «правозащитники» с
луженой глоткой быстро поняли, что в этом случае могут вскоре лишиться
некоторых учеников, и им придется собственными силами строить себе класс и
завоевывать популярность. А так, без всяких усилий, все более – менее равны.
Об этом
равенстве – очередном идеале Тойча, хорошо сказал Ницше: «Учение о равенстве!
Нет более ядовитого яда! Ибо кажется, что справедливость проповедует это
учение, тогда как именно в нем заключается конец справедливости! «Равным –
равное, неравным – неравное» – вот это было бы истинным языком
справедливости, – и, что из этого следует «Неравное никогда нельзя сделать
равным» [54].
Но не
отчаивайтесь, неравные. Вы теперь имеете в своем распоряжении принципы Тойча,
которые (стр. 157): «имеют большое значение. Принципы, по которым мы
живем, гораздо важнее денег, которые мы можем оставить своим наследникам.
Принципы являются неизменным наследством, которое нельзя произвольно
уничтожить».
И главный из
этих принципов – это, конечно, ваше Право – сей принцип уж поистине
неискореним. Как сказал Сартр: «Когда человек одержим Правом, никакие
заклинания не способны изгнать беса» [55].
XIII
Тринадцатая
заповедь (стр. 161): «Контролируйте
услышанное».
В этой главе,
друзья, доктор Тойч дает нам с вами удивительно точную характеристику (стр.
161): «если только вы не являетесь редким исключением из правила, вы
наверняка беспечно относитесь к восприятию новой информации. В подобном
случае вы напоминаете мусорный контейнер. Вы поглощаете все подряд».
Ну как? Вы
еще не почувствовали себя полностью забитыми мусором? Если да, то не
отчаивайтесь. Здесь Тойч прав (стр. 163): «Сами по себе слова людей значат
не слишком много. Значение имеет то, что отложилось у вас в голове». И прочитаем
на странице 164: «Не пускайте никого за порог своего сознания».
Этот ценный
совет можно целиком отнести к чтению филистерской литературы, ибо после нее
чувствуешь себя как бы выпачканным в грязи. И слова Тойча, видимо, также не
значат слишком много, главное, чтобы они не отложились у нас в
голове!
Итак, мы
дошли до последнего принципа.
XIV
Четырнадцатая
заповедь (стр. 165): «Будьте
Терпеливы».
Вот он сакраментальный
израильский «савланут», постоянно внушающий нам особенно не рыпаться и
принимать действительность такой, какова она есть. Что ж, нам и впрямь ничего
другого не остается, если мы приняли все предыдущие принципы тойчевского
IDEAL-а. Как нам теперь не сравнить (стр. 167): «себя с куколкой внутри
кокона». Но бабочкой мы, увы, не станем. Мы привыкли к своему кокону. И
нечего нам завидовать тем, кто живет в другом коконе, как говорили в
Бухенвальде: «Каждому свое!»: «Не завидуйте другим. В противном случае вы
создаете все больше причин для зависти. Ваши друзья, возможно, более
состоятельны, зато у вас, быть может, больше мудрости, душевного спокойствия,
уверенности и свободы- Кто-то может казаться интеллектуальнее вас. У вас же,
с другой стороны, более привлекательный характер. Жизнь справедлива. Там, где
у нас недостаток, у кого-то изобилие. А того, чем богаты мы, ему не достает»
(стр. 168).
Не
рекомендует нам Тойч также и жалеть других: «Не жалейте других. В этом
случае вы идете к тому, что рано или поздно вас тоже будут жалеть. Знайте,
что каждый, кого вы жалеете, находится, как и вы, в состоянии, которое
необходимо ему для дальнейшего совершенствования». Может быть, но
все-таки кое-кого следовало бы пожалеть. В частности, по-моему, жалости
настоящей заслуживает доктор Тойч, ведь у него, несчастного нет больше пути
для дальнейшего совершенствования, он человек со сложившимися
убеждениями, и, как он сам писал в «Краткой предыстории» на стр. 14, в его
методе «есть ответы на все вопросы», и все его «поиски на этом
закончились». Будем же милосердны, как Господь милосерд. Пусть «Каждый
человек похож на вас – в настоящем, в будущем или в прошлом», нам,
грешным, нет нужды уподобляться каждому, наша цель стать Богоподобными.
Пытаясь примирить нас с
действительностью, Тойч убеждает нас смириться со своим местом в этом мире: «Возможно,
вы удивлены неустойчивостью вашего жизненного пути. Но следующее рассуждение
успокоит вас. Наимельчайшие частицы атомов вашего тела движутся с той же
потрясающей предсказуемостью, что и планеты вокруг солнца. Поскольку все тела
нашей вселенной, как мельчайшие, так и самые крупные, находятся в постоянном
закономерном и упорядоченном движении, можно сделать следующий вывод. Человек,
являясь неотъемлемой частью космоса, должен двигаться согласно этим же общим
законам, хотя, на первый взгляд это не очевидно».
Ну что тут можно
возразить против такой железной логики фатализма? А на самом деле нет ничего
банальнее этого рассуждения. Начиная с Демокрита, вплоть до наших дней, чуть
ли не каждый философ ставил под сомнение свободу воли человека. Как метко
сказал об этом Ф. Ницше: «Одно из особенных очарований каждой теории
составляет то, что ее можно отвергнуть: этим-то она и привлекает утонченные
умы. Кажется, что сто раз опровергнутая теория «свободной воли» обязана своим
продолжительным существованием только этой привлекательной силе: постоянно
является кто-нибудь, кто чувствует себя достаточно сильным, чтобы
опровергнуть ее» [56].
Почти теми же
словами, что и Тойч, описывает наше с вами «свободное» поведение Артур
Шопенгауэр: «Совсем не метафора и не гипербола, а вполне трезвая и буквальная
истина, что, подобно тому как шар на бильярде не может прийти в движение,
прежде чем получит толчок, точно так же и человек не может встать со своего
стула, пока не отзовет или сгонит с места какой-либо мотив; а тогда он
поднимается с такой же необходимостью и неизбежностью, как покатится шар
после толчка» [57]. Так, но
из этого не следует, что мы встали со стула не по своей воле. Владимир
Соловьев писал: «Где причинность наиболее понятна, наименее познаем мы
сущность воли; и где воля является несомненной, причинность так затемняется,
что грубый рассудок решается ее отрицать» [58].
Наша судьба и все наше поведение предопределены объективно, в себе;
субъективно же, для себя, мы свободны.
Средневековый философ Рамбам (Рабби Моше бен Маймон) или Маймонид писал: «Но,
может быть, кто-нибудь станет удивляться и задаваться вопросом: как же
допустить, что человек может делать все, что ему хочется, и что поступки его
зависят от него самого, когда с другой стороны, несомненно, что ничто в мире
не может совершиться помимо Творца, о котором говорит Святое Писание (Пс.
134:6): «Господь творит все, что хочет, на небесах и на земле, на морях и во
всех безднах»? Но дело в том, что оба эти положения не исключаются взаимно:
все в мире совершается по воле Божией, и тем не менее поступки наши зависят
только от нас» [59].
Каждый наш
поступок обусловлен причиной, никто это не берется отрицать. Но вся ложь
теории Тойча заключается в том, будто ему известны эти причины, будто он
может постигнуть и разгадать все пути Господни: «В некоторых своих
примерах мы показали, что иногда даже несчастный случай является
закономерностью». Если это действительно так, то снимите шляпу, господа,
перед вами не просто лжепророк, а лжебог. «Следовательно, дорогие друзья,
– пишет Тойч на 169 странице, – вы можете быть спокойны. Вы в нужном месте
и в нужное время, а ваши действия правильны». Стоило нам чего-то еще
желать, городить весь этот огород, когда и так, оказывается, все было
прекрасно, только мы об этом не знали. Ну а как же идеал мыльных опер, осуществить
который обещал нам Тойч? Обрели ли вы жизнь Санты Барбары? Нет? – Ну ничего,
зато вы стали «богатыми духом», а терпение поможет вам смириться с
отсутствием богатства материального. Более того, Тойч предупреждает, что
возможно, следуя его советам, вы потеряете «свое положение, деньги,
возможности». Но это все чепуха. Главное, что вы приобрели – это «счастье».
Так, что
будьте терпеливы, господа! Вы счастливы!
В последней своей главе «Итоги», Тойч лишь подтверждает эту мысль (стр. 171): «Не ждите случая, как это делают многие. Одни полагают, что не смогут быть счастливы до тех пор, пока не станут жить в определенном месте, пользоваться определенным автомобилем, носить определенную одежду, учиться и работать в определенных местах или, пока они не женятся на определенного типа женщине. Другие считают, что должны обладать определенным весом и ростом, доходом или телефоном с кнопками. Если вы не удовлетворены сейчас, завтра вы будете не удовлетворены еще больше. Это одно из правил подсознания». Удовлетворенность и адекватная оценка действительности – вещи не тождественные. Например, как учитель музыки я могу быть вполне удовлетворен учеником, уши которого реагируют на фальшивые ноты, и могу быть совсем неудовлетворен тем учеником, слух которого привыкает и смиряется со всякой грязью.
И опять
противоречие: «Начинайте прямо сейчас учиться быть довольными собой,
своими взглядами. Своей семьей, женой, родителями, детьми и даже собакой.
Своими способностями, начальником, коллегами, подчиненными. Улучшайте все,
что можете или хотите. Остальное принимайте таким, какое оно есть.
Довольствуйтесь, или, по крайней мере, учитесь довольствоваться этим».
Улучшать и довольствоваться – как сочетаются друг с другом эти два
императива? Тот, кто всем доволен, ничего улучшать не будет, более того, путь
к счастью, как считал Кьеркегор, лежит через отчаяние, его движущие факторы –
страх и трепет; шок и потрясение – начало просветления, – считали мастера
Дзен. Тойч же пишет (стр. 172): «Не позволяйте обстоятельствам лишать вас
уверенности в себе и безмятежности. Сравните себя с цыпленком. Ни наседка, ни
рука человека не могут помочь ему проклюнуться через скорлупу. Ему дали силу
и смышленость, необходимые для выживания. Но он должен сам использовать эти
качества, чтобы выбраться из яйца. Это справедливо и в отношении вас. У вас
есть все то, что может помочь вам справиться с любыми непредвиденными
обстоятельствами». Нет, господин Тойч, не надо помогать цыпленку
выбираться из скорлупы, он выберется оттуда и без Вашей помощи, но поймите,
что сами Вы, и весь ваш американский филистерский мир находится в скорлупе
таких непробиваемых предрассудков, из которых ни Вам, ни Вашему методу
никогда не выбраться даже при «втором вашем рождении», ибо, прежде чем
родиться, нужно умереть, распять в себе «ветхого человека» (Рим. 6:6), чтобы
обрести бессмертие.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, мы
прочитали и обсудили книгу Тойча «Второе рождение». Казалось бы разобрали все
вопросы. Но у меня возник еще один: Разве это все, что может дать нам доктор
Тойч? Нет, я вижу в нем большие возможности. Он о них и сам намекает (стр.
173): «Государственные и частные школы учат читать, писать, считать,
говорить на родном и иностранных языках и т. д. Но они не учат нас тому, что
для нас является первостепенным, а именно: тому как стать счастливым».
Вот и поле
деятельности. Как в антиутопии Джорджа Оруэлла «1984» было четыре
министерства – министерство Правды, министерство Мира, министерство Любви и
министерство Изобилия, так же по этому типу можно бы было учредить «Министерство
Счастья». И кому как не доктору Тойчу его возглавить!
Возможно, что
именно это ведомство когда-нибудь возглавит сам «князь мира сего». Так видел
образ грядущего Антихриста Владимир Соловьев: «И чудесный писатель не только увлечет
всех, но он будет всякому приятен, так что исполнится слово Христово:
«Я пришел во имя Отца, и не принимаете меня, а придет другой во имя свое,
– того примите». Ведь для того, чтобы быть принятым, надо быть приятным». [60]
Многим
прельщает нас Тойч: он и обаятелен, и доброжелателен, и терпим к инакомыслию,
и вежлив, и в меру прост, и в меру образован, и в меру суеверен – чего еще не
хватает, чтобы быть приятным среднему обывателю? И все-таки до Антихриста ему
еще далеко. Он слишком земной демагог – не дал он пока миру великих знамений
и чудес, и ему недостает необходимой харизмы, чтобы прельстить также и
избранных. Ведь те, кто хоть раз вкусил Хлеб жизни, никогда не променяют Его
на чечевичную похлебку тойчевских «идеалов».
Как бы там ни
было, я думаю, что в любом случае имя Тойча останется навсегда в истории
нашего века. И вполне заслуженно, ибо все его идеалы – это та единственная
«мышь», которую породила «гора» современного просвещения. Увы, при всем
развитии высшего образования, мы имеем массу первоклассных грамотных
профессоров философии, психологии, этики и т. п., но ни одного философа,
мыслителя, способного порождать новые идеи, пусть даже и завиральные, но о
которых бы говорили и которые смогли бы зажечь своими идеалами хотя бы пять
человек. Но нет, все эти профессора философии оказались полными импотентами
мысли. У нашего поколения нет ни своего Ницше, ни Сартра, ни Фрейда, ни
Сахарова, ни Солженицына; даже Горбачев с его Перестройкой, канули в лету.
Наступает время шарлатанов и мракобесов. Мы еще увидим каких чудовищ родит
сон нашего разума. А пока этот духовный вакуум заполняет Тойч, так как худо
ли бедно, но он вылез за пределы профессорской рутины.
* * *
На этом можно
было бы завершить рассмотрение идеалов доктора Тойча. Может, у кого-то возникнет
ко мне вопрос: что же я могу предложить взамен? Я умышленно вам ничего не
предлагаю и не навязываю (упаси Бог). Ищите сами. Если кто-то найдет для себя
возможным использовать советы Тойча – в добрый час. Как сказал Заратустра у
Ницше: «Делайте что хотите, но прежде всего будьте такими, которые могут
хотеть!» [61].
Для себя я
избрал единственный метод, который полностью согласуется с моей совестью,
дает мне силу и смысл жизни, делает меня счастливым – это учение Христа. Но
какого бы вы не были вероисповедания, постарайтесь прежде всего жить в
согласии с самими собой. Как бы не относились к вам окружающие, преуспели ли
вы среди них или нет, это никак не отразится на вашем душевном состоянии.
Счастливы вы будете только тогда, когда сможете сами себя уважать. Это,
честное слово, важнее, чем уважение толпы, если учитывать, что мы живем в
такое время, когда именно карьера, успех, слава – могут оказаться позором.
Все это можно резюмировать словами Конфуция: «Если государство не следует
Пути Дао (не управляется согласно с разумом), то стыдно быть богатым и в
чести. Если государство следует Дао, то стыдно быть бедным и не в чести». [62]
Иерусалим. 1997 год.
[1] Л. Н. Толстой, Путь жизни.
[2] В. И. Новодворская, По ту сторону отчаяния.
[3] Ориген, Против Цельса.
[4] М. К. Ганди, Мой Толстой.
[5] Артур Шопенгауэр, Афоризмы житейской мудрости.
[6] Дионисий Ареопагит, О божественных именах.
[7] Дионисий Ареопагит, О божественных именах.
[8] Дионисий Ареопагит, О божественных именах.
[9] Комментарии св. Максима Исповедника к сочинениям
св. Дионисия.
[10] Артур Шопенгауэр, Афоризмы житейской мудрости.
[11] Эпиктет, В чем наше благо? Избранные мысли
римского мудреца.
[12] Владимир Соловьев, Оправдание добра.
[13] Фридрих Ницше, Помрачение кумиров.
[14] Альберт Швейцер, Культура и Этика.
[15] Владимир Соловьев, Оправдание добра.
[16] Серен Кьеркегор, Болезнь к смерти.
[17] Зигмунд Фрейд, Недовольство культурой.
[18] Ю. Г. Мизун, Ю. В. Мизун, Бог, душа, бессмертие.
[19] «Хас ве-халила» – непереводимая ивритская идиома,
означающая примерно «не приведи Бог!».
[20] Юлиан Семенов, Семнадцать мгновений весны».
[21] Юлиан Семенов, Семнадцать мгновений весны».
[22] Филипп Ш. Берг, Введение в Каббалу.
[23] Иммануил Кант в своей «Критике способности суждения»
писал: «Различие религий – странное выражение! Все равно что говорить о
различных моралях. Могут, конечно, существовать различные виды верований в
зависимости от исторических средств, употреблявшихся для содействия религии, но
эти средства, имея свою историю, относятся не к религии, а к области учености;
точно также могут существовать различные священные книги (Зендавеста, Веды,
Коран и т. д.), но религия для всех людей и во все времена может быть только
одна. Следовательно, эти средства могут быть, только орудием религии, тем, что
случайно и может быть различным в зависимости от времени и места».
[24] Фридрих Ницше, Так говорил Заратустра.
[25] Вавилонский Талмуд, Маккот 23 б.
[26] Ральф Эмерсон, Доверие к себе.
[27] Вл. Высоцкий, Пародия на плохой детектив.
[28] Фридрих Ницше, Так говорил Заратустра.
[29] Иммануил Кант, Критика практического разума.
[30] Иммануил Кант, Критика практического разума.
[31] Иммануил Кант, Критика практического разума.
[32] Артур Шопенгауэр, Афоризмы житейской мудрости.
[33] Серен Кьеркегор, Болезнь к смерти.
[34] Артур Шопенгауэр, Об основе морали.
[35] Артур Шопенгауэр, Об основе морали.
[36] Вавилонский Талмуд, Шаббат 31а.
[37] Иммануил Кант, Критика практического разума.
[38] Владимир Соловьев, Оправдание добра.
[39] Иммануил Кант, Критика практического разума.
[40] Владимир Соловьев, Жизненная драма Платона.
[41] Фридрих Ницше, Очерки несвоевременного.
[42] Л. Н. Толстой, Путь жизни.
[43] Артур Шопенгауэр, Афоризмы житейской мудрости.
[44] Артур Шопенгауэр, Афоризмы житейской мудрости.
[45] Серен Кьеркегор, Болезнь к смерти.
[46] Артур Шопенгауэр, О Свободе воли.
[47] Владимир Высоцкий, Песня-сказка про джина.
[48] Владимир Соловьев, Оправдание добра.
[49] Комментарии св. Максима Исповедника к сочинениям
св. Дионисия.
[50] Фридрих Ницше, По ту сторону добра и зла.
[51] Ориген, Против Цельса.
[52] Ориген, Против Цельса.
[53] Ориген, Против Цельса.
[54] Фридрих Ницше, Очерки несвоевременного.
[55] Жан Поль Сартр, Тошнота.
[56] Фридрих Ницше, По ту сторону добра и зла.
[57] Артур Шопенгауэр, О Свободе воли.
[58] Владимир Соловьев, Кризис западной философии.
[59] Маймонид, Яд а-хазака.
[60] Владимир Соловьев, Три разговора.
[61] Фридрих Ницше, Так говорил Заратустра.
[62] Конфуций, Лунь-юй, XIV,1.