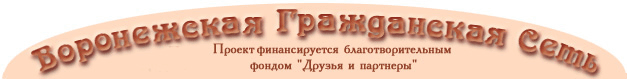|
||||||||
17.09.00
Всеволоду Смирнову.
Фидбэк и претензия на участие в обсуждении тем, предложенных в рубрике «Интерактивная страничка» сайта «Воронежская гражданская сеть», частного лица Сергея Баландина, e-mail: s_balandin@hotmail.com или balandin@galanet.net.
Многоуважаемый господин Всеволод. Пишет Вам Ваш земляк Сергей Баландин, которого Вы, возможно, и помните, а возможно, и забыли, так как Ваш слуга уже почти десять лет является гражданином Израиля и проживает во святом граде Иерусалиме.
На днях, просматривая каталоги на сервере «Забор» http://www.zabor.com/, на котором зарегистрирован и мой сайт, я обнаружил родное слово «Воронеж», и кликнув на линк, к своему изумлению, увидел знакомое имя Всеволода Смирнова. Я тут же представил себе, как десять лет тому назад мы встречались на всякого рода демократических «тусовках», и, насколько я помню, господин Смирнов принадлежал тогда к партии Демократический Союз. К сожалению, случай тогда не способствовал нашему более тесному общению, как впрочем, за эти десять лет я потерял всякую связь и с остальными моими друзьями. Может быть, теперь, бе-эзрат а-Шем (с Божьей помощью), как говорят в Израиле, средства Интернета и электронной почты помогут нам восстановить упущенное и найти обоюдную пользу в дальнейших контактах.
С большим интересом прочитал я все Ваши публикации и с удовольствием бы принял участие в обсуждении предложенных Вами тем, хотя, должен признаться, несколько отстал от понимания российских реалий. Однако есть проблемы общечеловеческие, которые и в России, и в Израиле, и даже в Штатах одни и те же, Вам как философу это не нужно объяснять. Не надо объяснять еще и потому, что, как я понял из Ваших работ, опубликованных на сайте, круг моих интересов во многом совпадает с Вашими. В этом Вы можете убедиться сами, если посетите мой сайт: http://www.galanet.net/~balandin/HydePark.Index.htm и познакомитесь с опубликованными там моими книгами.
Общее впечатление от прочитанного у меня таково:
Многое показалось мне близким не столько по форме и содержанию, сколько по духу. Почти все публикации, которые попадались мне в последнее время, сплошь пропитаны ложью. Я даже собрал коллекцию «перлов» из подобного рода литературы, которую поместил на своем сайте под рубрикой «Виртуальный музей». Ложь вылезает из них как шило из мешка и смердит даже тогда, когда авторы пишут, в принципе, правильные вещи, ибо они говорят не то, что думают, а то, что, по их мнению, надо думать, что заставляет их думать конъюнктура момента. Спорить с ними вообще бесполезно, как бесполезно спорить чацким с фамусовыми и скалазубами. Да последние обычно никогда и не расположены к дискуссиям. Кто они такие, в конце концов, есть? Они чиновники от идеологии, выполняют свою должностную «работу» – «выслуживаются», а не «служат». Дискуссия не входит в круг их обязанностей. У них наготове всегда ироничная улыбочка и снисходительное заявление: «Я не хочу спорить на эту тему». Но в Ваших работах я не почувствовал, что они писались ради того, чтобы выслужиться перед кем-то. В них нет конформизма, что весьма редкое явление для нашего времени. Однако я также не почувствовал, что эти работы писал де-эсовец. Нет, написаны они хорошо, многое сказано верно, вполне логично и весьма интересно, но один главный для меня вопрос пока еще остается без ответа: «Против кого пишешь?». Где та мина, которая закладывается под консервативные устои? Пока там еще нечего взрывать. В этих работах автор предстает скорее хорошим знатоком философии, обозревателем, пусть даже где-то и критиком философии, но не философом, ибо истинная философия начинается с бунта, с противопоставления: «А я говорю вам…». Для меня философия не профессия и не самоцель, подобно «искусству ради искусства», а лишь инструмент для выяснения правды и обличения лжи и лицемерия. Но этому, естественно, в университетах не учат.
Если начать с
«Интерактивных страничек», где Вы предлагаете обсудить определенные темы,
которые можно было бы в общем определить как: 1) социальной справедливости, 2)
религии и экуменизма, 3) патриотизма. В принципе, Вы правильно подходите к
решению проблем: есть мифы – их нужно развенчать. Вот этим и Ваш слуга в своих
сочинениях занимается. Нужно вещи называть своими именами. Задача интеллигенции
изменить общественное сознание, когда воров будут называть ворами, а идиотов –
идиотами их социальный статус хозяев жизни долго не продержится. Но смотрите,
какой миф проскальзывает в Ваших собственных словах, не миф, а настоящий перл!:
«…продажность всех слоев российского общества,
и, в особенности, интеллигентной его части». Продажная интеллигенция! Каково?
Понятие подобно «квадратному кругу». Вот это и есть миф, что продажную
образованщину у нас называют высоким словом «интеллигенция». Его нужно
развенчать в первую очередь. Нет ничего более противного понятию интеллигенция,
чем этот мещанский бездуховный слой со всей их «шкалой ценностей». Иными
словами, перефразируя Евангелие, можно сказать: «То, что высоко у этих людей,
то мерзость в глазах интеллигента».
Позвольте придраться еще к одной мелочи. Вашу
любовь к латинским терминам можно простить (хотя для литературного русского
языка такая стилистика считается нежелательной) тогда, когда речь идет о чисто
философских или психологических понятиях, но вместе с тем у Вас встречаются
такие термины, вроде «de profundis», которые не могут быть оправданы никакой
научной необходимостью. Правда, сие не к месту употребляемое выражение вошло в
русскую литературу с незапамятных времен, если не ошибаюсь, с легкой руки
Франка. Философ Семен Франк, безусловно, весьма интересная личность, но
отнюдь не все следует у него заимствовать. В частности мой, отчасти уже
израильский слух режет его латинское «de
profundis». Я не такой уж
патриот русского языка и иврита, но где-то в сердце возникает досадное
недоумение, почему еврей и российский философ при цитате библейского Псалма
№129 (130), который в подлиннике (на иврите) звучит так: «ми-маамаким кратиха
Адонай» (Из глубины (пучин) воззвал к Тебе, Господи), использует не имеющую
никакого отношения ни к первоисточнику, ни к евреям, ни к России латынь. Его
друзья по «Вехам» даже приняли предложенную им латинскую цитату в качестве
эпиграфа для очередного их сборника «Из глубины». Оставим это на их совести.
Покойный Александр Мень, где-то писал о своих так и не осуществившихся планах о
новом русском переводе Библии с именами и названиями, основанными на ивритской
и арамейской (не все он, кстати, произносит правильно), а не на греческой и
латинской транскрипции (примеры моей транскрипции библейских имен и названий
приведены в Приложениях к «Пятому Евангелию»: http://www.galanet.net/~balandin/P.E.htm).
Я думаю, эту традицию неплохо было бы развивать в России, тем более что
когда-то эта страна была в числе первых в мире по изучению Святой Земли. Не к
лицу русским постигать древний язык царя Давида через латынь.
Не хотелось бы мне видеть также перерождение
моего родного Воронежа в безликий американизированный провинциальный городишко.
Так, вы пишете: «В США, например, даже в городках, по размерам и статусу вроде
нашего поселка Придонского, мирно уживается между собой по 15 - 20 конфессий,
которые почти все имеют собственные культовые здания, что, кстати, весьма
способствует украшению этих маленьких городков, сотворению их специфической
персональной «ауры», говоря более прозаическим языком - городской культурной
среды». Опять США, ну почему бы Вам хоть раз не привести в пример Иерусалим?
Впрочем, в данном случае, сей пример вряд ли был бы удобен в качестве эталона
Вашему плюралистическому идеалу, иерусалимская пресса по искусству «клеймить
позором» (особенно ненавистных ей христиан) ни в чем не уступит воронежской.
Но, представьте себе, я бы предпочел ближневосточную нетерпимость и даже
религиозный экстремизм, часто у нас являемый еврейскими и мусульманскими
фанатиками этому американскому буржуазно-мещанскому миролюбию, где вера есть
разновидность клуба по интересам, чтобы чем-то заполнить weekend. Если ваша пресса еще не разучилась
«клеймить позором», значит, еще есть сердца, не погибшие для веры. Есть борьба
– значит, есть жизнь.
Несколько замечаний по поводу собственно
Ваших работ.
С проблемами постмодернизма мне до сих пор
как-то не приходилось сталкиваться, поэтому я и не достаточно компетентен,
чтобы вступать здесь в полемику. Рад был узнать много неизвестной мне ранее
информации. Тем не менее кое-что из этой статьи у меня вызывает возражение.
Так, например, не могу с Вами согласиться,
что гегелевский постулат «Бытие и небытие суть одно и то же» (Гегель, Наука Логики) есть игра понятиями.
Наоборот, Гегель, как я его понимаю, таким образом устраняет эту игру,
характерную для традиционной метафизической софистики. Он обращает наше
внимание на то, что и «бытие» и «ничто» суть не что иное, как определения нашего
конечного рассудка, схватывающего одну из сторон какого-либо предмета и
фиксирующего по ней определенное качество. Что значит «быть»? Это значит в
определенный момент времени обладать определенным качеством, как в том
анекдоте: когда-то у одного индейца было большое стадо бизонов, но теперь
бизонов нет, зато есть большое количество навоза, на что индеец философски
рассудил, что в каждом бытии есть свое положительное и отрицательное начало.
Даже индеец понимает, что разные качества не есть ничто, и с другой стороны,
всякий предмет есть «ничто». Например, я не бизон, я не индеец, и сии понятия
во мне выступают как «ничто». Но кто же тогда я? Понятию «Сергей» мой рассудок
приписывает бытие в некоем качестве: Сергей – это живой белокожий человек в
возрасте 45 лет. Когда же реальный Сергей станет отрицать эти качества: ему
исполнится 46 лет или вообще умрет, то в своем новом качестве для прежнего
определения он будет ничто. Но, поскольку процесс изменения качества, как и
всякое движение, происходит перманентно, то всякое бытие содержит в себе ничто
и наоборот.
Еще одно замечание. Критикуя постмодернизм за беспринципность, Вы приводите в пример Ошо Раджниша, которого Вы еще обозвали (верю, что ненамеренно) таким мерзким словом «религиозный деятель» (что у него общего с попами?): «…излюбленный способ изложения у этого автора - «сталкивание» между собой точек зрения различных мыслителей и религиозных деятелей и поочередная критика одного с позиций другого и – наоборот», но Вы не замечаете, что при всей гигантской эрудиции этого в высшей степени замечательного мыслителя, кого бы он ни цитировал и ни комментировал, в каждом его высказывании недвусмысленно видна четкая собственная позиция, и также четко и недвусмысленно определены его враги, конфронтация с которыми привела его к тюрьме и преждевременной смерти. Ошо – это еще один побитый камнями черни пророк-интеллигент.
По второй статье у нас, пожалуй, будет гораздо больше серьезных расхождений, и не только в определении веры, но и в понимании того, что, собственно, есть определение (дефиниция) как таковое. Вы пишете, что дать определение веры «…весьма затруднительно, так как (подобно свободе или любви) вера не укладывается в прокрустово ложе «determinatio», которое, во всяком случае, согласно концепциям классического рационализма, есть «negatio», то есть ограничение». Если Вы рассматриваете веру как реально существующий объект, как наблюдаемое Вами мало понятное явление, тогда всякое определение ему будет абсурдным, что в логике называется petitio principii, самое большее на что Вы имеете научное право, это давать описание феномену, анализировать его и выдвигать гипотезы. Всякое же определение определяет не какую-то «вещь в себе», а понятие, разъясняя, какой смысл именно Вы в данном контексте вкладываете в тот или иной термин. В том контексте, как Вы понимаете термин «вера», ему дать определение отнюдь не сложно. Очень хорошее определение в этом смысле дал Ницше, лучше, по-моему, и не скажешь: «Верой» называется нежелание знать истину» (Антихрист). Трусливую лживую сущность сего понятия не скрывает даже приводимое Вами мудреное определение Юнга как «нуминозное» образование, служащее идее целостности психики». Да, где-то и Юнг прав, у плебея-обывателя порой от столкновения с правдой может и «крыша поехать», лучше уж «верить». Но честные религиозные философы, такие как Франк, например, и многие другие не переставали утверждать, что подобная «вера»: «…есть прямо грех перед Богом как Духом истины» (Семен Франк, С нами Бог). Если Вам интересна моя концепция веры, то она изложена в книге «Пятое Евангелие», Вторая часть: http://www.galanet.net/~balandin/Gospel of Human.htm, третья глава, где описывается Стена Плача и Гора Мория, во Вступительной статье к «Антиевангелию», глава «В чем наша вера» http://www.galanet.net/~balandin/Introduction.htm в статье «Суперарец 2000» http://www.galanet.net/~balandin/Superaretz.htm и во многих других местах.
Во всех этих публикациях я преследовал только одну цель – развенчать поповский миф о вере как о доверии к некоему авторитету и отвержению собственного разума. Я его опровергал не только собственными доводами, но и толкованием Священного Писания, высказываний отцов Церкви, талмудистов и других мудрецов. Цель же Вашей статьи прямо противоположная – Вы этот миф хотите «оправдать». Возможно, Ваша апология ортодоксии есть реакция на длительное огульное отрицание всякого учения, не санкционированного советскими чиновниками от науки, но для Израиля актуально разоблачение даже самых темных средневековых суеверий, здесь, например, до сих пор практикуется изгнание дибуков (нечистых духов), в некоторых школах запрещено упоминать о дарвиновской эволюции, о том, что мир существует чуть больше, чем 5760 лет, и в тому подобные маразмы здесь верит 99% населения. Научное мировоззрение здесь пока юридически дозволено, но почти повсеместно считается предосудительным как некая вредная ересь. Что, хочу я спросить, в данной ситуации нуждается в защите и оправдании?
Когда здесь говорят о «защите веры», на самом деле имеется в виду защита заблуждений и иллюзий от каких-либо влияний, способных их разоблачить или поколебать. Если бы эти «верующие» не боялись разоблачения, они бы говорили не о защите веры, а о защите правды, как, между прочим, говорили Иисус и библейские пророки. «Блаженны изгнанные за правду» (Мф. 5:10), а не «за веру»; Исаия также говорит от имени Господа: «…ищите правды» (Ис. 1:17), а не «ищите веры». Вера же в моем понимании как состояния, в чем-то схожего с буддийским просветлением, когда человек ясно осознает, чего он хочет, понимает смысл своей жизни, хорошо видит, что добро, а что зло, ни в каком оправдании не нуждается. Оправдываются только нашкодившие мальчишки, у кого совесть не чиста, а о какой вере можно говорить при нечистой совести? Истинная вера, так же как и надежда и любовь, не нуждается и ни в какой защите, например, если я люблю музыку Моцарта, я буду продолжать ее любить несмотря на моду и вкусы окружающей меня толпы, даже если кроме меня ее больше никто любить не будет. Но толпой обычно руководит мода, и она думает, что подчинение моде и есть любовь. Бывает, что эстетические вкусы пытаются навязать толпе директивами сверху, тогда «любовь» приобретает только один смысл – рабское подчинение власти, где всякая попытка дышать свободно расценивается как посягательство на национальную культуру, традиции, веру, на самое «правильное» мировоззрение.
Интересно Вы понимаете определение ап. Павла – «уверенность в невидимом» как уверенность в непроверенной и недоказанной гипотезе. Конечно, библейский текст каждый вправе трактовать как хочет, но хочу Вам напомнить, что сам Павел уверовал только потому, что «Невидимое» стало для него видимым. Также и первая половина определения Павла – «осуществление ожидаемого» испокон веков толковалась попами как ожидание (вот наступит Царство Небесное, придет Машиах, явится Иисус во втором пришествии и как «барин нас рассудит», а пока терпи, будь паинькой и слушайся попа), но никто не обращает внимание, что «осуществление ожидаемого» осуществляется по учению ап. Павла исключительно руками верующего, в результате чего невидимое становится видимым и осязаемым для всех. Ни в одном своем послании Павел не учил верующих быть слепыми орудиями в руках попов, а поступать в соответствии со своею совестью, говорить своим языком, а не чужим «ангельским» и «человеческими» (1 Кор. 13), ибо только в наших собственных искренних чувствах, в нашей любви Бог, остальное все ложь, «медь звенящая».
Впрочем, Ваше понятие веры несколько отличается от поповского, оно более либерально и индивидуалистично. Вы связываете веру с этическим выбором: «…мужествен ли я достаточно, для того, чтобы рисковать, вступая в сферу непредсказуемого». Почему бы Вам не сказать проще: «Достаточно ли я мужественен, чтобы свидетельствовать о том, чего я не знаю»? – Весьма «этично», ничего не скажешь, и определение У. Джеймса (прямо-таки «кредо» джентльмена удачи какого-то), на которое Вы ссылаетесь выше, лишь подтверждает сию абсурдную позицию. Вы хотите при помощи веры «…осваивать, «обживать» все новые и новые области прежде пугающего и враждебного бытия» (ересь, между прочим, с точки зрения ортодоксии). На самом же деле, если такая сфера где-то и существует, она не слишком-то требует от нас особого мужества. Смерти нам, например, никому не избежать, независимо от того, боимся мы ее или нет. Мужества требует только одно – истина, ясная и осознанная правда, о которой мы боимся честно свидетельствовать, хотя и видим ее своими глазами. Иисус не играл в прятки с непредсказуемостью, но вступил на вполне предсказуемую Via Dolorosa, которая и завершилась предсказанным Им же крестом.
Далее, ссылаясь на Альбера Камю, Вы относите марксизм к религиозному верованию, уподобляете искупительную жертвы Христа страданиям пролетариата. Я не знаю, насколько прав Камю по отношению к современным ему рабочим, но я, пожив и при социализме, и при капитализме, еще ни разу не встречал страдающего пролетария. Есть, конечно, недовольные, особенно, когда начальство начинает требовать дисциплины и добросовестного труда и когда не уравнивают в оплате и престиже труд низкоквалифицированный с трудом интеллектуальным. Точно так же, вероятно, «страдал» и Сальери, когда с легкостью рожденные шедевры Моцарта публика «несправедливо» предпочитала его трудовым потугам, однако вряд ли кто сочтет сии страдания жертвенными и искупительными. Жертвенно способен страдать только один тип людей – интеллигент.
Далее Вы пытаетесь дать критерий «истинности» вероучениям и в качестве такового выбираете наиболее сомнительный – время (о своих критериях я написал в шестой части Пятого Евангелия при описании церкви Дормицион http://www.galanet.net/~balandin/Gospel%20of%20Heart.htm). Вы приводите в пример как успешно прошедших испытание три религии: христианство, ислам и буддизм (а иудаизм почему-то забыли, есть, впрочем, и еще одна «философская система», над которой вообще не властно время, имя ей идиотизм). Ну что ж, это только доказывает, что проверку временем может выдерживать не только истина, но и самая дремучая тупая ложь. Ниже Вы, как бы солидаризируясь с невеждами, торжествуете над просчетами секулярных наук, провалами социалистических идеалов и попыток интеллигентов решить социальные проблемы путем рационального устройства общества. Так, Вы усматриваете причину появления тоталитарных режимов XX века и их преступлений в рациональной философии, на которой они якобы основывались. Как, мол, посмел Ленин определять этический императив, не посоветовавшись с попами, но вслед за Лениным и я могу повторить: хорошо то, что способствует утверждению правды и справедливости, плохо – то, что этому делу препятствует. И вместе с тем я должен заметить, что вовсе не теория, а практика привела марксизм к краху. На словах, между прочим, и Сталин был за строгое соблюдение законности, за демократию, свободу слова, призывал к принципиальной открытой критике и т. п. Это лишний раз доказывает, что «благими намерениями (теориями) вымощен путь в ад».
В конце же статьи, через все эти, с моей точки зрения, ложные посылки Вы совершенно неожиданно и непоследовательно приходите к, в принципе, правильному выводу, подобно соловьевскому силлогизму: «Человек произошел от обезьяны, следовательно, мы должны любить друг друга». Вы пишете: «Выход из этой проблемы, на мой взгляд, кроется в признании плюралистичности мира и потенциальной множественности ценностных установок, которые могут стать фундаментом успешного и эффективного социального действия. Для этого, согласно, например Ю. Хабермасу, необходим широкий и непрерывный диалог между разнообразными «lebenswelt»-ами, заключенными во внутренних мирах как отдельных личностей - носителей ценностей, так и коллективных субъектов социального действия при одновременном рациональном изучении этих «возможных» миров… Результатом такого диалога должна стать не раз и навсегда заданная система общих «всечеловеческих» ценностей и основанная на нем этика, а подвижный консенсус различных этических «точек зрения»». Очень хорошо, но где Вы видели такую религию, чьи бы попы нашли в себе мужество сказать: «Мы ничего не знаем, мы открыты к диалогу, к дискуссии и готовы учиться от опыта других вероучений»? Согласитесь, что, если такое произойдет, они уже не будут ни христианством, ни исламом, ни иудаизмом, это будет не обусловленный никакими догмами и предрассудками свободный честный духовный поиск, он впитает в себя все лучшее, что есть во всех мировых вероучениях, и ему уже не нужны будут попы. Но чтобы создать такую религию, нужно прежде всего разрушить поповское мракобесие, а не оправдывать его.
Третья статья возражений почти не вызывает, все-таки не случайно она получила диплом. Но с моей точки зрения она хороша скорее для университетских кафедр, нежели для жизни. В одном месте, по-моему есть ошибка, я, правда, не знаю чья, Юнга или Ваша. Вы пишете: «…Юнг по этому поводу вспоминает слова апостола Павла “Вы - Боги!”». Насколько мне известно, это слова не Павла, а цитата из 81-го Псалма, которые затем в полемике с фарисеями цитирует Иисус (Ин. 10:34). Но дальше Вы приводите просто блестящий ответ Юнга на вопрос «Верите ли Вы в Бога?»: «У меня нет необходимости верить в Бога. Я знаю Его». Жаль, что раньше мне не попадалось это высказывание, оно очень хорошо подтверждает один из главных догматов моей веры (см. http://www.galanet.net/~balandin/Introduction.htm (подзаголовок «Четвертый наш догмат»).
В завершение мне хотелось бы подчеркнуть, что те разногласия, о которых я говорил выше, представляются чисто формального характера, в сущности же мы стоим на одних и тех же позициях: Вы стоите за экуменизм – и я также за него, Вы за диалог, дискуссии – и я их любитель, Вы питаете интерес к религиозной мысли и считаете, что ее потенциал еще далеко не исчерпал себя – и в этом я с вами полностью солидарен, в то же время Вы, как и я, за демифологизацию «расколдовывание» окружающего нас мира, я же считаю последнее святым долгом каждого истинно верующего, что есть не что иное, как борьба с идолопоклонством. Если все в действительности так, как мне представляется, то нам с вами еще будет о чем поговорить. Смею надеяться, что и Вы напишете что-нибудь для моего «Гайд-парка» или хотя бы ответите на настоящее письмо по адресам: e-mail: s_balandin@hotmail.com или balandin@galanet.net.
С уважением Сергей Баландин.
Сергею Баландину.
Уважаемый господин Сергей! Я извиняюсь за задержку ответа на Ваше весьма интересное и обстоятельное послание, связанную с моим вступлением в брак. Теперь, когда заботы уже позади (или, быть может, только начинаются), я наконец-то в состоянии ответить Вам.
Конечно, я Вас прекрасно помню, и не только по политическо-перестроечным тусовкам. Я имел честь учиться у Вашей матери, Т. Г. Константиновой, в музыкальном училище по классу скрипки. Проработав затем 10 лет в Оперном театре нашего города и, естественно, ничего не получив в вознаграждение своего труда, я и решил, последовав словам Иисуса по поводу зарытого таланта, испытать свои силы на поприще философии, поступив на соответствующий факультет. В нашей стране, если Вы помните, всегда было все наоборот - работа в профессиональном коллективе не приносит ни морального, ни материального удовлетворения, посему, так как «в поте лица твоего будешь есть хлеб» (Быт., 3: 19), приходиться подрабатывать по всевозможным «халтурам» - играть на торжествах, в ресторанах, на улице, etc. Моя супруга, скрипачка такого же амплуа, в настоящее время также получает новое образование - учится в межконфессиональной протестантской семинарии. По вероисповеданию мы оба - члены Методистской Церкви, где и венчались, но по факту крещения я - католик, что, возможно, объясняет мою склонность к латинским выражениям.
Из вышеизложенного, особенно для человека, знакомого с отличительными чертами конфессий, становится ясно, почему я выступаю в роли «неоапологета», и какое Христианство, какую веру я защищаю и отстаиваю. Основной принцип Методистской Церкви - методичное (отсюда и название) изучение Писания (тем более неизвинительна моя ошибка, которую Вы подметили, по поводу авторства слов «Вы - боги») и критически-рациональный подход к богословию. Поэтому я, так же как Вы, выступаю «против» некритической, «слепой» веры, которую и были бы рады насадить некоторые круги современной РПЦ, аппелируя к некой особой «духовности». Но, прежде чем говорить об «особой», нужно понять, что же такое есть эта пресловутая «духовность» вообще? Сократ и Платон меня научили уточнить смысл терминов, если мы вообще хотим что-либо сказать (я уже не говорю о Л. Витгенштейне и знаменитом его определении философии из «Логико-философского трактата» - «Цель философии - логическое прояснение мыслей. Философия не учение, а деятельность»). Ясно, что если я в чем-то хотя бы согласен с Витгенштейном, то вынужден (с позиции «логического прояснения мысли») не согласиться с Вами по поводу Вашего определения философии как «инструмента для выяснения правды и обличения лжи и лицемерия». Таким инстументом, еще, пожалуй, может явиться логика, но она есть инструмент, «органон», по самоопределению. Чтобы обличать неправду, необходимо знать правду (а лучше - истину), но это невозможно без веры. Помните у Галича: «Но бойся единственно только того, кто скажет - я знаю как надо» (курсив мой). Банальная философская истина - конечное (человек) по определению не может познать бесконечное, если само Бесконечное не развернется перед ним, поверяя свои таинства. Поэтому я соглашаюсь со средневековой формулировкой: «Философия - служанка Богословия», но это согласие не означает полного отказа от разума в пользу веры, а лишь понимание того, что сам разум есть не более как полезный, но, увы, весьма несовершенный инструмент. И одна из задач философии - определение границ разума, его «критика» в Кантианском смысле. Вторая же, позитивная задача философского знания, на мой взгляд (ибо любая критика по определению негативна) - это пролагание путей и наведение мостов (любопытная перекличка с титулом Папы Римского - Понтифик). Человек, в своей конечности и ограниченности своего существования (с фактом физической смерти и ее неожиданности вряд ли можно поспорить, если только не объявить ее фактом определенного «конечного словаря», как то делает, например, Ричард Рорти, и не попытаться пересоздать этот словарь) никогда не может самостоятельно узнать с абсолютной достоверностью правильный метод (путь, способ), ведущий к единственно точному истинному результату. В области нового мы всегда действуем методом проб и ошибок, и здесь-то и приходит на помощь философия. Она берет на себя труд скрупулезно продумать последствия того или иного нашего шага во тьме, порожденного нашей свободой выбора (впрочем, из-за того же факта смерти - выбора в весьма и весьма узких рамках). Поэтому нельзя принимать философские системы и доктрины как «руководство к действию» ( и тем более как «догму») - они, несмотря на амбиции их творцов (достаточно вспомнить Гегеля, утверждавшего, что именно в его философской системе Абсолютная Идея наконец-то возвращается к себе, «успокаивается»), суть лишь история человеческих заблуждений (блужданий), дорога во мраке, которую некоторые люди имели мужество представить себе до конца. Таким образом, этот скорбный путь разума по дороге, желая оправдать первый, наугад сделанный шаг, естественно, стремился соединить не желающее до того соединяться, и, как правило, неосознанно, наводил мосты между разронненными знаниями, полученными в результате эмпирического опыта. Такие мосты оказывались иногда полезными даже в прикладном плане (вопреки мысли Х. Ортеги-и-Гассета о принципиальной своей бесполезности, которой философия гордится) - достаточно указать на методологические научные принципы, начиная с «Аналитик» Аристотеля, развивавшиеся в русле философской мысли. Философия всегда стремится дать основания, хотя бы «беспочвенность», как у Л. Шестова, и практически никогда не достигает этих оснований в плане умозрительном, не будучи воспринята на веру. Но, приняв в качестве критерия пресловутую Марксистскую «практику», мы вынуждены признать, что она демонстрирует, что философские «истины» - гораздо худшее основание для жизни людей, нежели религиозные догматы. И не веру в изгнание дибуков я защищаю - в России, уж поверьте, бытуют представления похлеще, да и поопасней этого - (например, о мировом еврейском заговоре - чем не вера?), - а веру, к которой человек мыслящий приходит, пройдя весь тернистый путь познания и осознав невозможность нахождения оснований разума в нем самом и посредством него, - против суеверия, к которому я отношу не только колдунов, заговоры, порчу и сглаз, весьма популярные ныне в России, а и слепую ортодоксию, зачастую замешенную на элементарном корыстном интересе. Так что верой я называю не «нежелание знать истину», как то делает Ф. Ницше, - это, на мой взгляд, определение суеверия, а «невозможность знать истину» «в пределах только разума», перефразируя Канта. Но само бесконечное стремление эту самую истину познать, неиссякаемое в роде человеческом, несмотря на бесчисленные неудачи, само по себе говорит о необходимости для человеческой психики веры, что и подмечает К.-Г. Юнг, рассматривая идею Бога, «нумена», как необходимую для целостности психики функцию. Фактически, Юнг повторяет Кантианское понимание Бога как необходимого гаранта истинности категорического императива, следование которому, с одной стороны, знаменует собой свободу человека от мира внешнего опыта, а с другой - в этой краткой и бренной земной жизни отнюдь не ведет к оптимальным результатам по достижению благ - отсюда выводится идея посмертного воздаяния, бессмертие души и Бог, все сие «гарантирующий». Конечно, если признать одну лишь «горькую правду» об одиночестве и «заброшенности» (говоря словами Сартра) человека в мир, то от такой «правды» не только, как Вы пишете, «у плебея-обывателя...может и «крыша поехать»», но это может случиться и с самым высокомудрым и высоконравственным мыслителем; поэтому-то, как минимум, хочется принять известное пари Паскаля (естественно, на его стороне) или повторить вслед за «безбожником» Вольтером: «Если бы Бога не было, следовало бы Его выдумать.» (Кстати, Вольтеру принадлежит еще одна крылатая фраза, стоявшая эпиграфом на партбилетах ДС - «Мне глубоко враждебно ваше мнение, но я отдам жизнь за то, чтобы вы могли его высказать» - цитирую по памяти, могу ошибиться в порядке слов, но за смысл - ручаюсь). Следующим же шагом в постижении веры может явиться как раз моя позиция - я действительно мало понимаю феномен веры, почему пытаюсь дать ему описание, проанализировать его ( например, спозиций прагматизма, как то уже предпринял У. Джеймс), но не выдвигать гипотезы по поводу веры - так как из вышеизложенного становится ясно, что рациональный гипотетико-дедуктивный метод не в состоянии понять то, что находится за гранью возможностей нашего разума - а рассмотреть саму религиозную веру, если хотите, как философскую обобщенную «гипотезу», уже однажды принятую и с тех пор неоднократно и разными способами проверяемую и подтверждаемую. Конечно, с точки зрения К. Поппера, религиозная вера не может быть рассмотрена в качестве научной гипотезы, так как она принципиально неопровержима, то есть не соответствует критерию так называемой фальсификации фактами, но, полноте, кто может претендовать на «научность» в той сфере, которая сама лежит в основании научного знания? Поэтому, наверное, религиозную веру и ее акты лучше рассматривать как некую программу действий, которые имеют, имели и могут иметь такие-то и такие-то следствия, исходя как из логики ее догматов, так и из исторической практики ее (веры) бытования. Таким образом мы, вероятно, сможем, например (что будет ценным для религиоведческой науки), найти корреляции между конфессиональными доктринами и историческими условиями жизни их адептов, ибо человек живет так, как он верит. Но хочется надеяться, что таким образом мы еще и обрящем, разумеется, не саму Истину, но хотя бы какие-то подступы к ней.
Вот почему я - экуменист, и поднимаю эту проблему как тему для обсуждения (любопытно заметить, что - впрочем, как всегда - почему-то проблемы нашего города, да и нашей страны, волнуют, прежде всего, жителей зарубежья, а не уважаемых соотечественников, что дает мне повод согласиться с Вами в Вашей оценке нашей интеллигенции). Экуменизм стремится, прежде всего, обеспечить равные права для всех вероисповеданий, так как это - необходимый фундамент для возможности объединения ( которое должно, как я считаю, происходить не по легкому пути элиминирования Богословских затруднений, а по трудному пути нахождения общего языка в результате диалога в стиле Хабермаса). Но само это равноправие может иметь еще одно следствие: если его не будет, мы можем прозевать Истину - кем был Иисус во время Своей земной жизни, и кто знал, кем Он Был? Поэтому с чуждыми тебе взглядами можно и нужно бороться, но не путем огульного отрицания («не нарушить пришел Я, но исполнить»; Мф, 5: 17), и тем более не путем запрета («...и начали обвинять Его, говоря: мы нашли, что Он развращает народ наш и запрещает давать подать Кесарю, называя Себя Христом Царем» /Лк, 23: 2/), а путем экспликации возможных следствий из того или иного учения.
В свое время У. Черчилль заметил, что демократия ужасна, но она пока что - лучшее из того, что имеет человечество в сфере политического. Можно заметить, что Христианство - не сахар, оно предъявляет к человеку во-многом запредельные требования (подобно требованию Иисуса к богатому юноше - раздать все имение свое и следовать за Ним), из него вытекают и негативные следствия (уже набившие оскомину упоминания инквизиции, крестовых походов, и т. п.), но, на мой взгляд, пока еще почти целиком интуитивный, - это лучшее, что имеет человечество в сфере Духа. Доказать же это, продемонстрировав паллиативность другив способов связи с Абсолютом - труд кропотливый и , быть может, неблагодарный - значит выработать и доказать возможность «Consummari in unum». Вероятнее всего, что это невозможно, исходя из моего же собственного понимания соотношения веры и разума. Естественно, что представители иных религий вправе предпринять такую же попытку в пользу своего способа верить. Но как раз во взаимном диспуте-диалоге можно достичь консенсуса, приблизившись на еще один коротенький шажок к постоянно отдаляющемуся горизонту Истины.
Отсюда видно, что я, если и, как Вы пишете, «апологет ортодоксии», то моя апология есть не реакция на официальный тупой атеизм советского времени, который постепенно подменяется столь же тупой официозной версией православного учения, а некая, если позволите, «уверенность в невидимом», т.е. интуитивное предчувствие возможности развернутого доказательства как своей точки зрения, так и безусловной значимости веры вообще и Христианства, в-частности. Кстати, столь высоко ценимый Вами Ошо Раджниш предпринял примерно такую же попытку, столкнув «лбами» различные религиозные и философские доктрины - он надеялся выявить некий «чистый» остаток при их взаимоуничтожении. Я считаю, что именно это наиболее важно в его наследии, а не обличение «врагов», которые, кстати, посадили его в тюрьму не совсем безосновательно. Просто я считаю, что и учение самого Ошо должно пройти то же самое «испытание на прочность», прежде чем кто-либо сможет обличать других с его позиций. Конечно, можно возразить, что и Христа распяли «не совсем безосновательно», но Его учение, хотя бы отчасти, уже прошло такую проверку, хотя бы - временем. (Впрочем, очень тяжело рационализировать собственную веру).
Отвечаю также на другие Ваши критические замечания.
1. По поводу «продажной интеллигенции».
Это означающее имеет, как минимум, три подразумеваемых означаемых (я уж не рассматриваю возможность его употребления в качестве ругательства). Во-первых, это социальная группа, занимающаяся определенного рода деятельностью, именно - умственной. Во-вторых, это исторически сложившаяся в России группа недоучек-разночинцев, стремившихся переделать мир (я извиняюсь за оценочное суждение, но в нем я во-многом солидаризуюсь с «веховцами», которые сами прошли через искусы этой интеллигенции). В-третьих, это гипотетическая группа лиц (кстати, не обязательно занимающаяся умственным трудом), призванная выражать «ум, честь и совесть» своего времени, некая «соль земли» (кстати, обычно забывают, прилагая это определение Христа к интеллигенции, что обращено оно было не к фарисеям и книжникам, а к простым рыбакам, мытарям, нищим и т. п.) На мой взгляд, как негативное отношение к интеллигенции, так и гипостазирование ее роли, происходят от смешения этих трех понятий, обозначаемых одним словом. Что касается первого из них (может быть, лучше было бы употреблять здесь термин «интеллектуалы», если бы во Французской культуре он не имел примерно тех же семантических оттенков, как и наш «интеллигент»), критерием для выделения которого является род занятости, то среди представителей обозначенной группы есть лица как продажные (т.е., коррумпированные, не отягощенные грузом нравственных забот, и т. п.), так и совершенно наоборот. Т. е., при употреблении понятия в этом его значении я просто выделил часть его объема в отдельное понятие, увеличив его содержание посредством прибавления определения «продажная», и в этом случае мои действия правомерны.
Во втором случае употребления термин «продажная» уместен точно так же, так как из истории нам известно, что, например, В. И. Ленин, будучи типичным представителем этого рода интеллигенции, не брезговал средствами Парвуса, немецкой разведки и т. п. Также немало «идеальных» (в понимании М. Вебера) образцов продажности этой группы можно почерпнуть в романах Ф. Достоевского («Бесы») и Н. Лескова («На ножах» и «Некуда»). Критерием же для выделения этой группы является специфическая исторически сложившаяся и неоднократно описанная идеология данной группы, отличная от идеологий других социальных образований.
Третье же значение слова (в котором, кстати, как явствует из контекста, я его и не употреблял) - некий «орден» «рыцарей без страха и упрека»- само по себе является мифом. В самом деле, для выделения ряда предметов по определенному признаку необходимо иметь критерий этого признака. В таком случае, если эти «предметы» -живые люди, мы должны предположить, что:
1. Критерий расположен на уровне биологическом.
2. Критерий расположен на уровне социально-историческом.
3. Критерий расположен «sub specie aeternitatis».
В первом случае мы вынуждены будем предположить неравенство людей на уровне устройства организма, что опровергнуто научными данными, а в качестве следствия будет иметь расизм, нацизм, или иное разделение на «чистых» и «нечистых».
Во втором случае мы должны предположить наличие в истории определенных законов и знание «интеллигенцией» этих законов, что является типичной «монополией на истину», характерной для советского марксизма.
Претензии историцизма были подвергнуты обстоятельной критике К. Поппером, к чьей работе «Нищета историцизма» я здесь и отсылаю.
В третьем же случае мы вынуждены предположить Божественную инстанцию и ее санкцию для причисления к «ордену» интеллигенции. Но, во-первых, нам не дано с точностью знать Божью волю; во-вторых, множество лиц, деятельность которых оценивается с этой позиции, обозначается иным термином, а именно - «святые», значение которого не совпадает со значением исследуемого нами термина.
Следовательно, при отсутствии критерия, мы не можем точно выделить искомую группу, а тем более атрибутировать ее. Таким образом, к ней могут быть применены любые эпитеты-атрибуты, в том числе и «продажность».
2. По
поводу «безликости» «американского городишки» Воронежа.
Здесь, на мой взгляд, мы оказываемся перед дилеммой выбора между плохим и очень плохим. Безусловно, провинциальный американский городишко - не «вечный город» типа Рима или Иерусалима, но ему и лет поменьше будет. Известно, что американцы - большие, прямо иногда до смешного, патриоты. И чемпионаты по бейсболу у них «всемирные», хотя в какой там еще стране в него играют, и все у них «самое первое» да «самое большое». Можно, и, наверное, правомерно, иронизировать над их ограниченным собственной «величиной» кругозором (хотя далеко не все американцы таковы, скорее, таковы наши стереотипы относительно этого народа), но не замечать позитива в такой их установке нельзя. Стремление быть «наипервейшими» и «наибольшими» как-то не сочетается со словом «безликость», скорее, в сочетании с недалекостью, со словом «китч». И как раз самооплевавшему и унизившемуся в ходе «перестройки» и последовавших событий российскому народу недостает этого стремления (хотя «китча» в виде рекламы и масс-культуры более чем достаточно). Но если плохое уже взято, почему же не заимствовать хорошее - стремление быть лучше других. Я думаю, что именно это чувство способствует мирной взаимоуживчивости конфессий в провинциальной Америке (хотя так было далеко не всегда), ибо, чтобы «быть лучше» другого, надо иметь этого самого другого; а демонстрация своей особости выливается при наличии этого условия и отсутствии глубокого интеллекта в чисто внешнее украшение себя и места своего обитания.(Поэтому, наверное, и говорят о визуальном характере американской культуры.) В России же это стремление «быть лучше» гасится общинно-унификационными тенденциями. Поэтому наши провинциальные города столь блеклы, и, к сожалению, наш родной город - не исключение. И поэтому у нас не любят «других»...
(Кстати, наша пресса не разучилась «клеймить позором», но научилась еще и делать это не за страх, а за деньги (например, «войны компроматов»). Поэтому многие россияне, устав от чужой борьбы на своем поле, просто мечтают о скромных радостях в стиле церковного уик-энда вместо «страшилок» новостных передач ТВ. Свидетельством тому - бурный рост «инославных» конфессий, эксплуатирующих именно столь нелюбезные Вам образы «мещанского» счастья. Люди просто устали бороться за существование, они хотят просто жить. По крайней мере, если бороться, то за жизнь, согласно Фаусту: «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой», а не за выживание. Но чтобы сражаться за жизнь, желательно иметь силы, которые как раз и восстанавливаются в течение «дня субботнего» - церковных уик-эндов).
3. По поводу
Гегеля и игры словами.
Во-первых, Гегель рассматривает категории бытия и ничто не как предпосланные системе постулаты, а как внутренние основания развертывания Абсолютной Идеи, Понятия с большой буквы, отнюдь не имея ввиду критику определений конечного рассудка. Верно, что таким образом Гегель пытался «схватить» «вечное движение», вопрос же в том, что, согласно положению формальной логики (которую он подверг критике), он объясняет слишком многое, и, следовательно, ничего не объясняет. В самом деле, как можно разграничить бытие и ничто, если они суть единые противоположности?
Во-вторых, Вы определяете бытие как «обладание определенным качеством в определенный момент времени». Но это неверно. Так можно говорить даже не о сущем, а лишь о существовании. Мне кажется, что Вы спутали индивидуальное бытие (которое и есть существование) и бытие как философскую категорию,наиболее значимый анализ которой предпринял М. Хайдеггер в трактате «Бытие и время». В Вашем определении бытие выступает как атрибут сущего, подобно как в онтологическом доказательстве бытия Божия, предпринятом Ансельмом Кентерберийским (который за это был подвергнут Кантом критике - знаменитый пример с реальными и воображаемыми талерами, которые могут иметь те же самые атрибуты, но попросту - не быть). Понятие бытия - наиболее общее понятие, и оно не может быть редуцировано к своим видовым понятиям, таким как сущее или существование ( кстати, и у Гегеля эти понятия появляются на более поздних стадиях развертывания изначального противоречия ). В самом деле, Вы как «Сергей» с присущими Вам качествами, можете перестать существовать, например, умерев (не дай Бог!), но быть, хотя бы в виде гумуса или костей скелета Вы при этом не перестанете. Более того, подлинное Бытие, как это и не прискорбно, быть может, для нас, будет пребывать вовеки, даже и в конце времен.
С уважением Всеволод Смирнов.
Уважаемый брат по вере Всеволод (извините, что в частном письме, не предназначенном для публикации в Интернете, я позволил себе опустить тривиальное обращение «господин»)!
Прежде всего, я хочу выразить Вам искреннюю благодарность за ответ, и сказать, что нисколько не в обиде за задержку, наоборот, был весьма тронут и польщен, увидев свое первое к Вам письмо столь быстро опубликованным на вашей WEB-страничке. Также и Вы не вменяйте мне в вину, если когда-нибудь обстоятельства вынудят меня замедлить с ответом. В связи же с Вашими счастливыми обстоятельствами примите мои искренние поздравления.
Ваш обстоятельный ответ я прочел с большим интересом, и хотя многое для меня в Ваших позициях остается спорным, как, впрочем, и для Вас в моих, что видно из резко критического характера письма, все же мне показалось, что в нашей дискуссии еще рано ставить точку, тем более что найти в наше время человека, умеющего вести диалог отнюдь не просто. Скажу Вам откровенно, мне гораздо интереснее найти не столько единомышленника или единоверца, сколько хорошего оппонента. Если Вы действительно любите спорить, то я этому весьма рад, и тогда нам с Вами будет еще о чем говорить. Мне сейчас, в связи с этим, пришло в голову такое определение интеллигента: интеллигент тот, кто любит спорить, но таких, увы, в той «социальной группе, занимающейся определенного рода деятельностью, именно – умственной», что Вы отнесли к первому значению слова «интеллигенция», остается все меньше и меньше. Посмотрите только все эти идиотские форумы и чаты в интернете. Все хотят лишь выпендриться, пустить пыль в глаза, сострить, спошлить, но ничего серьезного они говорить не собираются, наоборот, это даже считается у них дурным тоном. Порой такому «умнику хочется ответить как в том анекдоте: «Пионер Петя, в стране посевная идет, а ты выё..аешься». Даже то, о чем мы с Вами говорим, кажется иной раз настолько несущественным, когда мы здесь в Израиле, можно сказать, стоим на краю гибели, и никому до этого нет дела. Наверно, Вы знаете, что здесь происходит, хоть бы объяснили мне: эта дикая орда беснуется по Канту или по Гегелю? Но об этом потом. Разрешите мне по порядку Вашего письма высказать свои замечания.
Вы пишете: «Из вышеизложенного, особенно для человека, знакомого с отличительными чертами конфессий, становится ясно, почему я выступаю в роли «неоапологета», и какое Христианство, какую веру я защищаю и отстаиваю». – Здесь Вы явно переоценили мои умственные способности, пологая, что мне сразу стало ясно, чем ваша уважаемая конфессия достойней той же РПЦ, и сколько сучков в глазах последней Вам удалось заметить. Для меня принадлежность к той или иной конфессии никогда не являлось принципиальным вопросом. Мне интересно, что ты делаешь, а не во что ты веришь. В своем «Пятом Евангелии» я дал такое резюме вышесказанному: «Для того чтобы идти к Богу, совершенно неважно, к какой религиозной деноминации вы относитесь. Любая религия предписывает любить Бога и ближних, учит добру и праведности, т. е. любить и осуществлять правду и ненавидеть ложь. Конечно, далеко не все приверженцы тех или иных вероисповеданий исполняют все то, что говорят, а нередко даже делают совсем противное своим принципам. Да, к сожалению, это так, и нет такой религии или секты, которая смогла бы сказать, что она чиста от этого греха. Но зато этот грех всегда можно обличить, исходя только лишь из принципов данной религии. Поэтому нет никакой нужды создавать новые секты. Правду можно и должно говорить везде: и в синагоге, и в церкви, и в мечети, и на партсобрании, и повсюду искать единомышленников или хотя бы стараться находить с другими общие точки соприкосновения, а их в действительности гораздо больше между людьми, казалось бы, навечно разделенными друг от друга стенами своих вероисповеданий, чем это представляется на первый взгляд.
…Нам не надо ничего выбирать, менять, искать. Если ты иудей – очень хорошо, не пытайся становиться кем-то другим, в твоей вере есть все, чтобы постичь Истину, но знай, что христианство, ислам и все другие религии идут к той же цели, но своими путями. Я вообще не понимаю, что значит “кем-то стать”, что значит выбирать религию. Разве можно выбрать себя, родителей, родной язык? Это невозможно, да, если бы и было возможно, – не нужно. В мире есть очень много прекрасных вещей, много и прекрасных религий, и, заметьте, их с каждым годом становится все больше! Все это постигнуть одному человеку и разобраться, что лучше, что хуже и что предпочтительнее – просто невозможно. Невозможно даже перечитать всех классиков мировой литературы. Но если кто-нибудь поймет хотя бы одного, – это уже будет великое достижение. Я, грешный, например, родился в России, в XX веке, могу свободно читать на русском языке, в последнее время читаю также на иврите и английском. В силу только этого обстоятельства (а кроме этого, есть и масса других обстоятельств, ограничивающих наши возможности, такие, как: наши способности, образование, социальная среда и т. д.), мне трудно углубиться в тонкости, например, китайской или индийской мудрости, а мировая мудрость вообще безгранична. Поэтому я не говорю, что истина заключена только в моей культуре. Устами всех мудрецов мира всегда говорит одна и та же Истина, она же и Религия. Она может быть выражена на разных языках, в разных стилях и в разных формах. В этой книге я пытался увидеть Истину в формах Святынь Израиля, но отсюда не следует, что у Истины не может быть других форм. Поэтому старайтесь всегда углубляться не в формы, а в Содержание, а Его можно постигнуть через любую форму».
Поэтому, принадлежи ты хоть еще десяти конфессиям и будь даже членом «Церкви методических диссертаций», если ты не можешь ничего изменить в этом мире, если твоя вера не творит чудеса, не двигает горы, никого не воскрешает и не исцеляет, грош тебе цена. Вы говорите, что, так же как и я, «выступаете «против» некритической, «слепой» веры». ОК, но приведите мне хотя бы одну цитату из проповеди хотя бы одного попа той же РПЦ, где бы он выступал на словах за некритическую и слепую веру? То-то и оно, что одними словесными декларациями и догматами истинную веру не определишь – «По плодам их узнаете их». А наш духовный урожай (это касается всех деноминаций без исключения) пока что не слишком богат, да еще бревно гордыни глаза слепит.
Сам я еще в первый год своего пребывания в Израиле вступил в Иерусалимскую общину мессианских евреев, где и принял крещение. Что это такое с точки зрения догматики – трудно объяснить. Это что-то вроде богемной тусовки, куда ходят по шаббатам студенты, приехавшие в Израиль почти со всего мира: американцы, корейцы, немцы, румыны и некоторые израильские яппи. Что представляет из себе моя кнесия (на иврите «церковь»), Вы можете получить представление, посетив их сайт: http://yeshua.co.il/new/. По-моему, они и сами не знают своего Символа веры, во всяком случае, как-то никто этому не придает серьезного значения. Да и кто в наше время задумывается о догматах. Ведь таковые нужны были в богословских спорах на Вселенских и Поместных соборах, в межконфессиональной полемике, когда каждая йота определяла судьбу народов. Сейчас же каждая деноминация варится в своем собственном соку, считает себя верной Слову Господню, что, мол, и есть «Credo», а до других христиан им нет никакого дела. Мой пастор Мено Калишер, хоть и изучал где-то историю христианства, слышал о Никейском соборе, но вряд ли он ответит на вопрос: от Кого исходит Дух Святой, только лишь от Отца, или от Отца и также от Сына. Всякий вопрос, который прямо не упоминается в Танахе и в Новом Завете для него – от лукавого. Никаких апокрифов и преданий они не признают. Не признают крещение детей до сознательного возраста и досконального изучения ими Двар Адонай (Слова Господня). С моей точки зрения, эта Церковь ближе всего к баптистам, но таковыми они себя прямо не называют. Община хранит многие еврейские религиозные традиции, разве что кроме обрезания и Йом Кипура, ибо считают, что все мы уже обрезаны и искуплены Иисусом. Но остальные праздники ими почитаются: шаббат, Пасхальный седер, Рош а-шана и т. п. Проповеди читаются на иврите и английском, на каждом собрании поются особые мессианские песни на иврите (на некоторые из них я сделал MIDI-обработки, см. http://www.galanet.net/~balandin/MIDITEKA.htm). При всем моем критическом отношении к их деятельности (я крестился в Иисуса, а не в общину), я искренне поддерживаю их стремление найти мост между еврейским народом и христианской культурой, и считаю, что для Израиля нет иного пути, как в корне пересмотреть свое отношение к несправедливо отвергнутому ими Праведнику, чему по мере своих сил способствую.
Но вернемся к Вашему письму.
Вот Вы называете себя «неоапологетом», ОК, я в каком-то смысле тоже он самый, весь вопрос только в том, что мы защищаем и от кого защищаем. Не выступает ли наша «неоапологетика» в роли Неуловимого Джо, который неуловим и непобедим известно почему (потому что он, пардон, на х… никому не нужен)? Не защищаем ли мы вчерашний день от вчерашнего же дня? По-моему ни одна доктрина ни новая, ни старая не стоит того, чтобы ее защищать, если она не затрагивает конкретные интересы конкретных живых людей, и Вы не найдете таких апологетов среди великих во всей истории религии. И Иисус, и все пророки, и отцы Церкви, и хасидские цадики защищали прежде всего конкретных людей, нуждающихся в защите и спасении, решали, их сегодняшние, насущные проблемы. А от кого защищали? – прежде всего от консервативного религиозного истеблишмента, иными словами, попов. Напомню: «Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедывать лето Господне благоприятное». А кто мы с Вами? Или мы не «соль земли», чтобы не узреть сути проблем нашего времени, а пережевывать пресную жвачку дня вчерашнего? А если нет, тогда нас надо со всей нашей философией «выбросить вон на попрание людям» (Мф. 5:13). Что самое интересное, Вы на самом лучше, чем представляете себя в своих теориях. На своей интерактивной страничке Вы не поднимаете проблему догматических разногласий между методистами и православными, видимо, понимаете, что в широком обществе они мало кого интересуют, но говорите о вещах, которые могли бы волновать многих.
Впрочем, я бы мог дать некоторый ценностный критерий различным конфессиям. Быть может, он Вам покажется несколько не методичным, он – отношение к Святыням Израиля. То есть, кто здесь что юридически имеет, пропорционально своей численности, тот того и стоит (это же определяет и их влияние в государстве). Так, католики имеют в своем владении наиболее важные Святыни и в Иерусалиме, и в Вифлееме, и в Назарете, и практически везде. В основном, всем этим богатством распоряжаются францисканцы, имеющие статус Custodia Terra Sancta (стражи Святой Земли), но в последнее время они несколько «скурвились», превратившись в дельцов туристского бизнеса. Многие места, как например, музей монастыря церкви Благовещения в Назарете, куда проводятся только группы богатых американских яппи, просто закрыты для простых смертных. Я один раз затесался среди группы и хотел незаметно пройти, так нашлись же «праведники», что донесли: «Этот не из наших». По-моему, такая «стража» больше профанацию напоминает. Зато в Бейт Джамале (традиционное родовое имение раббана Гамлиэля, учителя св. Стефана и ап. Павла) есть небольшой салезианский монастырь, где всех посетителей встречает один и тот же монах. Он, по-моему, говорит на всех языках, и кто бы ни пришел, готов часами добровольно все объяснять, показывать. Мне лично он даже дал книгу о Доне Боско и истории деятельности салезианцев в Эрец Исраэль. Вот как тут делать обобщения? – на праведниках весь мир держится, не даром их всегда писали на столбах и колоннах храмов, ибо они и есть столпы. На втором месте после католиков идут греки-ортодоксы, среди которых также есть, как сволочи, так и святые. Присутствие армян особенно заметно в Иерусалиме и в Вифлееме, им принадлежит третья часть Храма Гроба Господня и Церкви Рождества. Эфиопы – беднейший народ, но как та вдова с лептой, пожалуй, проявляют наибольшую ревность, если ни мусульманским любимцам коптам, ни богатым армянам не удалось их вытеснить из своих пределов Храма Гроба Господня. Зато РПЦ при всей ее многочисленности и, как Вы пишете, особой «духовности», не имеет здесь практически ничего (Троицкий собор на Русском подворье, который почти всегда закрыт, не является традиционной святыней). Свои богослужения русские паломники обычно проводят в греческом монастыре св. Харлампия в Старом городе. Еретики мормоны могут похвастаться великолепным институтом на Елеонской горе, лучшем в мире органом и бесплатными экскурсиями с небольшим концертом в свой институт для всех желающих. Баптисты Святыми местами не обладают, зато они, и практически только они, проявили ревность на главную Святыню – народ Израиля в своей активной миссионерской деятельности. А вот кто такие методисты в этом плане – я убей, не знаю. Но кто же мешает вам, если и не институт открыть, то хотя бы паломничество организовать?
По поводу определения философии я не буду спорить ни с Вами, ни с г-ном Витгенштейном, которого Вы цитируете, – кто я такой против вас, корифеев? Но приведу Вам для коллекции определение еще одного корифея, которого И. Шафаревич называет «штатный философ Радио Свободы», некоего Бориса Парамонова: «философия есть род художественной игры, что строится она не на поиске истины, а на создании мифа» (http://www.lebed.com/art2120.htm). Мне также кажется, что такого рода философия очень хороша на роль служанки, и конечно, не только богословия, и действительно, кому только она не служила!
Но и Вы «не соглашаетесь» со мною, по-моему, напрасно, тем более в таких положениях, которые я вовсе и не утверждал. Если бы Вы почитали мои книги, то, наверное, поняли бы, что я отнюдь не считаю ни философию, ни логику единственными путями (мостами) к истине. В частности, в «Пятом Евангелии» я высшей ступенью познания выделил такой особый метод духовного делания, который назвал «экзегетикой сердца», ибо кто не сможет сделать свое эго прозрачным, а сердце чистым, то ему не помогут ни философия, ни даже изучение Священного Писания (это не только моя мысль, так Библия считает). В более позднем своем сочинении, во Вступительной статье к «Антиевангелию», я так разъяснил смысл своих «философствований»: «Даже сами рассуждения, по сути дела, не есть аналитические исследования, цель которых прийти к тем или иным выводам, дающим разъяснения на изначально стоящие вопросы; это своего рода попытка растолковать для глухих сердцем отчаянный вопль Бытия, попытка логически обосновать уже известный ответ». В статье «Суперарец 2000» я написал: «Кто же тогда прав, Талмуд или Евангелие? Где нам искать истину? Я думаю, что уже сама постановка такого вопроса свидетельствует о непонимании ни Талмуда, ни Евангелия. Во всяком случае, чтобы ответить на этот вопрос, нужно уже знать саму Истину, чтобы было, с чем сравнивать, а потом уже смотреть, где она содержится, что ей соответствует, а что нет. Естественно, тому, кто обладает Истиной не придет в голову спрашивать, где она содержится, а тому, кто ею не обладает, даже самый правильный ответ не поможет ее обрести». Все Священные тексты лишь помогают нам обнаружить и осознать в себе a priori присущее Слово Господне. То есть, из всего этого следует, что знание истины тождественно вере, что есть имманентное присутствие Бога в человеке.
Однако Вы сами опровергаете ваш же тезис: «…знать правду (а лучше - истину), … невозможно без веры» изречением из Галича: «Но бойся единственно только того, кто скажет - я знаю как надо». Не кажется ли Вам, господин философ, что сие изречение (в Вашем контексте) чем-то напоминает критянина Эпименида (о нем даже упоминает апостол Павел – Послание к Титу 1:12). Галич как бы говорит: «Я знаю, что нельзя верить тем, кто знает как надо», тем самым в последнюю категорию относит и самого себя. Тогда получается, что нет доверия и галичевской фразе, а раз так, то можно спокойно слушать и всех тех, кто что-то знает, в том числе и Галича. Теперь начинай сказку сначала. История знает случаи самоубийств философов и логиков, отчаявшихся разрешить апорию Эпименида. А если внимательно посмотреть, то с тем же парадоксом мы постоянно сталкиваемся в повседневной жизни. Попы говорят: не верь ученым, не верь другим попам – все лгут; раввины: бойся миссионеров; коммуняки: бойся антикоммунистической пропаганды; предвыборный лозунг в Израиле: «Рак Биби, хабиби» (Только Беньямин Нетаниягу, приятель). Но человек разумный скажет: Пусть все критяне лгуны, пусть – иногда говорят правду, у меня же есть свои глаза, чтобы видеть, и голова на плечах, чтобы отделить десницу от шуйцы, зачем мне кого-то боятся?
В моей практике с учениками иногда возникают такие ситуации: вдруг, в игре ученика появляется какой-то новый маразм: дикие акценты или отклонения от темпа, не предусмотренные автором. Я спрашиваю: почему ты так играешь, тебе это нравится? – Нет, – говорит, – не нравится, но ведь ты ж сам сказал так делать! – Во-первых, я этого не говорил, следовало бы больше обращать внимание на то, как я играю, тогда был бы понятен смысл моих слов. Во-вторых, предположим, что я так сказал, но как ты смел выслушать мои эти слова и не возмутиться, не начать со мной спорить, даже не спросил, на каком основании я так сказал? Так что знай: я самый великий лгун на свете, порой могу и специально сказать тебе какую-нибудь чушь в провокационных целях, ибо я тебя учу пониманию, а не попугайному послушанию. Если ты превыше всего любишь истину, то ты должен искать ее везде и ко всему подходить критически без исключения, даже к моим словам.
Это то, чем отличается учитель от преподавателя. Преподаватель преподает материал, а учитель учит ученика. Первый знает как надо, а второй может и ничего не знать, но истинному учителю не так важен учебный материал, как сам ученик, его способность самостоятельно разобраться в материале. Преподаватель скажет: «Делай так», а учитель предпочтет спросить: «Что ты намерен здесь делать?». Потом, если нужно, а часто и не нужно, поможет решить проблему. Нормальный ученик обычно сам до всего доходит. В этом плане интересен тезис Сократа-Платона: «Всякое обучение суть воспоминание» – учитель подобен повивальной бабке, помогающей родиться тому, что уже есть внутри.
Можно интерпретировать парадокс Эпименида и в обратном варианте, перенеся его на Слово Господне: «Ло таане бе-реаха эд шекер» (Не произноси ложного свидетельства) (Исх.20:16). «Не лжесвидетельствуй даже тогда, когда тебя будут понуждать к этому попы, ссылаясь на Мое имя», – как бы учит Иисус. Не лжесвидетельствуй, не принимай чужого свидетельства на веру, даже если тебя к этому будет понуждать Тот, Кто сказал: «Не лжесвидетельствуй», то есть Священное Писание, – говорит сердце верующего, искренне принявшее в себя Божественный глагол.
Как можно запретить мыслящему человеку думать? А думать – значит сомневаться. Мне могут возразить, что и Сам Иисус осуждал усомнившегося Петра (Мф. 14:31). Да, осуждал, но на то Он и Учитель, чтобы требовать от Своих учеников должного доверия пока последние не научатся и не станут сами Мастерами. Я тоже порой требую от своих учеников, чтобы выполняли мои задания, мол, сначала сделай, что я тебе сказал, а потом вопросы будешь задавать. Я считаю, что мне виднее, какой репертуар им следует играть, а какой нет, и «хочу – не хочу» я здесь не принимаю. В чем же тогда суть обучения, если дозволять все, что хочет ученик? С другой стороны, сам Дух Христова учения заставляет меня сомневаться, а все ли в Евангелиях правда? Не компилированы ли какие-нибудь куски попами в их корыстных интересах? И серьезное научное изучение Евангелий склонят к мысли, что таки да, компилированы. Но попам нечего возразить ученым, кроме: «верь и не сомневайся».
Лев Толстой в «Ответе на определение синода» писал: «“Тот, кто начинает с того, что полюбит христианство более истины, очень скоро полюбит свою церковь или секту более, чем христианство, и кончит тем, что будет любить себя (свое спокойствие) более всего на свете”, – сказал Кольридж. Я шел обратным путем. Я начал с того, что полюбил свою православную веру более своего спокойствия, потом полюбил христианство более своей Церкви, теперь же люблю истину более всего на свете. И до сих пор истина для меня совпадает с христианством, как я его понимаю. И я исповедую это христианство; и в той мере, в какой исповедую его, спокойно и радостно живу и спокойно и радостно приближаюсь к смерти».
Далее, хотелось бы Вам напомнить (не в порядке спора, а в порядке проблемы, возникшей в моем недалеком уме), что «пресловутая» практика, как критерий истины была впервые принята задолго до Маркса. Тот же метод мы встречаем у Моисея: «И если скажешь в сердце твоем: «как мы узнаем слово, которое не Господь говорил?» Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется, то не Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк по дерзости своей, не бойся его» (Втор. 18:21-22); пророк Михей сказал Израильскому царю Ахаву: «Если возвратишься в мире, то не Господь говорил чрез меня» (3 Цар. 22:28), но царь послушал четыреста своих лжепророков и погиб в сражении. «По плодам их узнаете их» – учил Иисус, но желательно распознать «их» не дожидаясь «плодов» как царь Ахав. Практика – метод, конечно, надежный, жаль только, что с его помощью люди слишком поздно осознают правоту пророка, как правило, после расправы над последним и последующим рядом трагических катастроф. И все же мне не понятно, как практика может решить, что для жизни человека лучше: философские «истины» или религиозные догматы? Сколько в истории было как ошибочных доктрин, так и ложных суеверных догматов! Однако нам дан кроме практики и логической дедукции еще один индикатор истины, о котором мы постоянно забываем, – это сердце, которому присуще врожденное чувство добра и зла, подсказывающее, что должно делать, а что нет.
Насчет «веры» в еврейский заговор, хотя я и занимаюсь сейчас изучением «еврейского вопроса», ничего определенного Вам сказать не могу, но и отрицать, относить к пустому верованию то, чего не знаю, также не имею никакого права. Кто может, например, сказать, видя незнакомого человека, есть ли при нем оружие или нет, прячет ли он в сумке взрывчатое устройство? Если Вы, например, как я, работаете охранником, на вашу территорию входит интеллигентный молодой человек европейской внешности – очень мало вероятности, что он террорист из «Хамаса», и тем не менее Вы обязаны его проверить: попросить представить документы, открыть портфель и т. п. (Я за всю свою практику работы в охране ни одного настоящего террориста, как и заговорщика, ни разу, слава Богу, не встретил, зато иногда подобные молодые люди пытались пронести мимо меня всякую «бяку», потом оказывалось, что это проверка полиции. Кое-кто из охранников, пропустив такого гостя, лишились своей работы). А как Вы проверите и обыщите всех заговорщиков? Тем более что народ сам дает целые поля деятельности для всяких мафий, а «свято место пусто не бывает».
Далее, мне показалась несколько странным утверждение: «Экуменизм стремится, прежде всего, обеспечить равные права для всех вероисповеданий». Насколько мне известно, вопрос о равноправии вовсе не в компетенции экуменизма, у нас, в Израиле, это решается депутатами Кнессета, в России – вероятно, в Думе или что-нибудь в этом роде. Но свобода межконфессиональных дискуссий вовсе не предполагает «равноправия» правды и заблуждений. По этому поводу я сочинил такой анекдот:
- Вовочка, сколько будет дважды два?
- Пять
- Садись, двойка.
- Нет, Марь Иванна, это несправедливо, ведь каждый имеет право на свое мнение.
Наука – штука бескомпромиссная, – либо твое мнение верно, либо ошибочно. Если мы будем «уважать» заблуждения оппонентов, этим мы не только похороним всякую возможность дискуссии, но и возможность познания как такового. По-моему, Вы в своей главной позиции сами себе противоречите: с одной стороны, Вы, как будто, за диалог, за рациональные доказательства истины, и в то же время постоянно признаете сие невозможным. Эта позиция, прежде всего, будет мешать Вам самому придти к какому-нибудь осознанному убеждению, а также лишит Вас всякой основы в спорах с оппонентами. Уж преодолейте как-нибудь свой релятивизм и пристаньте к какому-нибудь берегу, берега и убеждения, конечно, можно менять, но только тогда, когда их имеешь. Следующая мысль, по-моему, у Вас наиболее слабая, как по смыслу, так и по форме. Вот посмотрите, каким языком Вы пишете: «Доказать же это, продемонстрировав паллиативность другив способов связи с Абсолютом - труд кропотливый и , быть может, неблагодарный - значит выработать и доказать возможность «Consummari in unum». – Оцените с чисто литературной точки зрения сей «перл», я бы назвал «нарочно не придумаешь». Какой в этом смысл? Вы хотите, чтобы как можно меньше людей Вас читали и поняли? Хотите ли Вы этим показать, насколько Вы посвящены в тайны философской премудрости, чтобы у других «профанов» даже не было никакой возможности проверить корректность Ваших рассуждений? И все это для того, чтобы доказать, что истина непознаваема, все равно-де придется капитулировать перед первой попавшейся доктриной и поверить в нее не проверяя и не рассуждая. Может быть, я опять чего-то не понял, так не откажите в любезности снизойти к моей тупости и разъяснить это положение еще раз и более простыми словами (если латинскими, то желательно с переводом).
Далее Вы пишете: «Кстати, столь высоко ценимый Вами Ошо Раджниш предпринял примерно такую же попытку, столкнув «лбами» различные религиозные и философские доктрины - он надеялся выявить некий «чистый» остаток при их взаимоуничтожении». По-моему, Вы совершенно не понимаете Ошо. Вы, философ-методист, привыкли к доктринам и ищете доктрины в его книгах, но их там нет, там нет доктрин ни его, ни чужих. Он никого не критикует и даже не «обличает врагов», как Вы пишете (чтобы иметь врагов, не обязательно их обличать, как не «обличал» Моцарт Сальери). Цель Ошо вовсе не найти «некий «чистый» остаток» и из него построить новую доктрину, его цель – освободить умы своих учеников от всяких доктрин, даже и от его собственной, если таковая случайно возникнет в чьей-то голове. Поэтому нет никакого «учения самого Ошо» и нечему проходить «испытание на прочность». Ошо не теоретик, он учитель, его заботят только ученики, умы которых он старается привести в состояние просветления (не ума), когда отброшена всякая обусловленность и есть непосредственное созерцание. Так, из одержимого ума христианина он вытаскивает христианскую занозу, из иудея – иудейскую, из индуса – индуистскую и т. п. Поэтому надо смотреть не о ком говорит Ошо, а кому он это говорит! Так и я, с одним учеником больше работаю над инвенцией Баха, а с другим – над этюдом Черни. В первом случае я борюсь с исполнением инвенции по-черниевски, а во втором – этюда по-баховски, но это не значит, что я сталкиваю Черни и Баха лбами. Потом Вы пишете: «…посадили его в тюрьму не совсем безосновательно». – Где и когда политические преследования инакомыслящих проводились «безосновательно»? Разве те же большевики, осуществляя гонения на Церковь, признавались когда-нибудь, что они против свободы вероисповедания? – Нет. Преследовали верующих как бы за антисоветскую пропаганду, а не за веру. Нарушение визовой или паспортной системы США (не помню точно) – это что, достаточное основание тому, чтобы Ошо оказался в тюрьме? Просто смех. И как только Вы могли поверить всей этой чуши! Ошо, конечно, подрывал налаженную, с четко установленными традициями буржуазную жизнь американских яппи. Мотив их преступления можно понять: спорить с Ошо им не досуг – от бизнеса отвлекает, а их карманные журналисты и писатели к полемике совершенно не приучены, их профессия – реклама, изложение (упрощенное) чужих учений, промывание мозгов обывателям. Что они могут противопоставить Ошо? своего Дейла Карнеги? или Тойча? Да это же будет просто идеологическая смерть последних, а так же всего идейного основания яппи как класса. Что могли противопоставить фарисеи Христу? русские comme il faut – Льву Толстому? европейские чиновники – Францу Кафке? Христа обвиняли в мелких нарушениях шаббата, Его последователей также в разных «бытовых грехах», Ошо – в просроченной визе! До этого даже Понтий Пилат не додумался, хотя ведь Иисус, будучи подданным галилейского правителя Ирода Антипы, проник на территорию Иудеи, «подмандатную» Риму, без паспорта и визы. Хорошо, оставим Ошо, а чего стоит скандал Клинтона с Моникой Левински? Объясните мне, каким образом личные связи президента с этой дамой затрагивают интересы американских избирателей? Они избрали президента не для того, чтобы тот ходил образцом буржуазной морали, а для того, чтобы толково руководил страной. Конечно, и президент подлежит закону и не вправе злоупотреблять своим положением, чтобы обижать простых граждан. Если уж пользовался сексуальными услугами такой-то женщины, изволь заплатить ей по таксе, скажем, я не знаю… 100 $ – и дело исчерпано, хотя, по-моему, Моника Левински таких денег не стоит.
Далее идут ответы на мои «критические замечания», которые свидетельствуют о том, что суть моей критики Вами не понята, а многое просто проигнорировано. Так, например, Вы вынуждаете меня еще раз вернуться к прежнему письму и напомнить, как я пытался обратить Ваше внимание на наши расхождения «в понимании того, что, собственно, есть определение (дефиниция) как таковое». По этому поводу я писал: «Всякое определение определяет не какую-то «вещь в себе», а понятие, разъясняя, какой смысл именно Вы в данном контексте вкладываете в тот или иной термин». Вы же, как ни в чем ни бывало, продолжаете давать «определения» феноменам (вещам в себе, тому, что мы досконально не знаем и знать не можем), в результате чего весь спор сводится к тому, правильно употребляется то или иное слово, или нет. Была когда-то, наверно Вы знаете, в древнем Китае так называемая «Школа имен». Ее последователи полагали, что если выправить все имена, каждому слову дать одно определенное значение, то в государстве наступит порядок и благоденствие, однако более глубокая логика поняла принципиальную невозможность закрепления твердых понятий за постоянно диалектически развивающейся реальностью.
Так, слову «интеллигенция» Вы насчитываете три значения, а почему, собственно, только три, я думаю, Вы так же вправе назвать «Интеллигенцией» и свою кошку, однако если Вы сами себя будете называть Наполеоном, боюсь не все Вас поймут адекватно. Так уж сложилось, что слово «интеллигенция» в русском языке, в особенности, как его понимают в кругах той же «продажной образованщины», приобрело высокое значение некоей духовной аристократии, причем не столько в социальном, сколько в этическом смысле – культурный, честный благородный человек. Поэтому нам и необходимо уточнить, кто относится именно к этому понятию, а кто – нет. Истинная интеллигенция (в этом смысле) – это и есть «соль земли» именно в Иисусовом понимании, но согласитесь, что эти яппи о сей очевидной истине и понятия не имеют. Их фарисейское понимание интеллигента ограничивается манерами поведения (как показателем «духовности»), образом жизни (нередко даже уровнем), и определенным социальным статусом (общественным положением). Суть моей критики состояла в том, что Вы не сочли нужным снять маску с лицемеров и объяснить этим господам, что «вы, уважаемые, кто угодно, только не интеллигенты».
Вы мне напоминаете, что Христовы слова: «Вы – соль земли» были обращены «не к фарисеям и книжникам, а к простым рыбакам, мытарям, нищим». Я, в свою очередь, тоже советую не забывать, что те рыбаки и мытари пошли на проповедь по слову Иисуса, не будучи субсидируемы, как их некоторые современные преемники, ни из Рима, ни из Нью-Йорка, ни из Москвы, не кончали они также ни философских университетов, ни межконфессиональных протестантских семинарий.
Далее, рассуждая о продажности интеллигенции, Вы пишете: «В. И. Ленин, будучи типичным представителем этого рода интеллигенции, не брезговал средствами Парвуса, немецкой разведки и т. п.». – Ха-ха, молодой человек, сколько Вам лет? Таких как Вы в Израиле называют не интеллигент, а фраер. Я не знаю, вправе ли я сравнивать себя по интеллигентности с Лениным, ибо мне пока еще никакой Парвус денег не предлагал, но если бы предложил, наверное, не отказался и использовал бы их для борьбы с израильской коррупцией. Научитесь же отличать продажность от тактики политической борьбы.
На счет американского характера Воронежа спорить не буду, на вкус и цвет…, но я хочу, чтобы Вы меня поняли правильно. России, как впрочем, и Израилю, есть много чему учиться у Америки, но по своему педагогическому опыту знаю, что недалекие ученики, не желая сами пройти весь путь познания, какой прошел учитель, предпочитают скопировать у него готовый результат, ограничиваясь чисто внешним подражанием. Такое «обучение», может быть, иной раз и сойдет на показуху, но не даст никакой пользы ученику, когда он сам столкнется с той или иной проблемой. Юлий Цезарь в таких случаях говорил: «Вы делаете то, что я говорю, но не делаете того, что я делаю». Я бы посоветовал обратить внимание хотя бы на то, что Америка, вырабатывая свой уникальный и во многом спорный характер, никому не подражала. Такой ее сделала сама жизнь. Если бы русские и израильтяне смогли бы обрести ту силу воли и любовь к свободе, присущие американцам, они бы не выбирали «между плохим и очень плохим», а добивались прямо того, что им надо.
Вторым хорошим примером тому, что Вы не поняли, что
я подразумеваю под определением как таковым, является следующая фраза: «Вы
определяете бытие как «обладание определенным качеством в определенный момент
времени». Но это неверно». А что, собственно, неверно? У Вас и ваших
профессоров на счет бытия другое мнение? – возможно. Феномен Бытия глубже и
сложнее моего определения? – согласен, но я и не определял феномен, более того,
я и не настаивал на том, что Гегель так его определяет, ведь я же ясно написал
(читать умеете?): «…как я его
(Гегеля) понимаю…», и о своем понимании я написал именно так, как есть
на самом деле. Я не кончал философских университетов, я дилетант-самоучка и не
знаю многих терминов и их научных формулировок, но это не значит, что я не имею
права говорить на своем языке, рассуждать в своих понятиях,
которым и даю разъяснение. Да и какой это имеет смысл в данном контексте, когда
Вы сами считаете философию Гегеля «игрой понятий», иными словами, бредом
собачьим? Разве так уж важно «правильно» понимать собачий бред? Тем лучше будет
для того, кто его понял не правильно. Я, как видите, и не пытался критиковать
Ваши рассуждения ни о Юнге, ни неомодернизме, ибо не компетентен, но когда Вы
прилепили такой ярлык на классика, внесшего огромный позитивный
методологический вклад в философию, я позволил себе усомниться, даже если я не
смог грамотно опровергнуть Ваш тезис, отсюда еще не следует, что он верный, а
моя позиция совершенно безосновательна. Это подобно тому, как человеку, ни разу
не посещавшему Израиль, не знающему иврита, трудно будет спорить со мной о
Библейских местах в Палестине и их правильном названии, но я не буду считать
Вашу христианскую веру недостаточно основательной, если Вы не скажете точно, где
находится, например, селение Еммаус и от какого ивритского корня происходит это
название.
Далее, Вы опять меня удивляете. Если, как Вы пишете, Вам «не дано с точностью знать Божью волю», то откуда в Ваших словах столько амбиций и безапелляционности, если они не суть Божья воля? Что тогда стоит все Ваше богословие, если ему ничего не дано? «…что же ты крестишь, если ты не Христос, ни Илия, ни пророк?» (Ин. 1:25). Святой же есть тот, кто имеет в самом себе Божественную инстанцию и сам дает санкции, кого куда причислить. Хотите – соглашайтесь со мной, хотите – нет, но спорить здесь Вы не можете, так как Вы сами признаетесь, что Божью волю не знаете, а я знаю, и никогда не буду утверждать того, чего не знаю. Я не знаю, как Вам доказать сей догмат, я просто его знаю, вижу, «на том стою и не могу иначе». Как узнать Божью волю? – Очень просто, спроси Бога и узнаешь. Ах, у тебя, методиста, к Нему нет прямого доступа, тогда какой смысл во всей вашей «вере», если она ничего не может, кроме как заниматься пустосвятством? Выбросите весь хлам из вашего ума, сделайте свое эго прозрачным, очистите сердце и Божья воля Сама заговорит из вас.
Теперь я хочу отойти от определений «бытия» и перейти к его описанию в самой что ни на есть жизненной реальности. «Все течет» – сказал Гераклит, так и здесь, много чего утекло с того момента, когда я Вам писал первое письмо. Например, если бы Вы тогда приехали ко мне в Иерусалим, я бы обязательно показал бы Вам Бейт Лехем (Вифлеем), Бейт Сахур, Геродион и их окрестности. Сейчас я уже это сделать не могу из-за опасности для жизни. Почти каждую ночь я засыпаю под грохот канонады израильских танков, обстреливающих Бейт Джалу и Бейт Лехем – город, где родился Христос. Знаете ли Вы, что между иерусалимским жилым кварталом Гило и Вифлеемом расстояние такое же, как между оперным театром и библиотекой им. Никитина? Дерех Хеврон – одна улица, связывающая Иерусалим и Бейт Лехем. Тем, кто живет на этой границе, совсем весело – пульки залетают в окна как мухи. Я живу несколько дальше, в районе Кирьят Йовель. Пули с Бейт Лехема и с Бейт Джалы до меня не долетают, хотя, в принципе, какая-нибудь шальная может и долететь. Этот район Иерусалима находится на горе, у подножия которой расположен Эйн Карем – место рождества Иоанна Крестителя. Теперь и Эйн Карем входит в юрисдикцию Иерусалима.
Царь Давид сказал: «Шаалю шлом Йерушалаим йишлаю охаватейх» (Просите мира Иерусалиму: да благоденствуют любящие тебя!) (Пс. 122 или 121:6). Почему вместо мира Иерусалим хотят отдать на разграбление варварам? По телевизору ежедневно показывают возмущения во всем мире израильской «агрессией». Арабы совершенно озверели, да и весь мир, как видно, тоже разум потерял – после каждого арабского преступления протест против их жертв. В чем Израиль, по-вашему, виноват, в том, что отстреливается и не дает этой орде ворваться в жилые кварталы, чтобы перерезать наших детей? Поверьте мне, что израильский солдат открывает огонь только тогда, когда нет иных способов защитить жизнь. Я сам работаю охранником в школе, у меня всегда при себе боевой пистолет и 24 патрона по 9 мм, и знаю, насколько здесь строгие законы в отношении применения оружия. Вот, был недавно один случай в Хайфе. Один израильтянин, еврей, увидел из окна своей квартиры, как двое арабов пытаются угнать его новую машину. Он успел выбежать, когда те уже завели мотор и поехали. Но хозяин зацепился за дверцу и стал пытаться остановить угонщиков. Те на полном ходу машины стали его бить и выталкивать, но у израильтянина был с собой пистолет, из него он и выстрелил одному арабу в ногу. На выстрел немедленно приехала полиция. Как Вы думаете, кого она арестовала? – Арабов отпустили с миром, а еврей, «незаконно» применивший оружие, предстал перед судом.
Объясните мне, как нормальные люди могут выступать в защиту варваров да еще и бандитов. Конечно, в отличие от варваров, наша культура мыслит и варвара человеком со всеми вытекающими отсюда правами, но правами быть человеком, а не преступником, увы, варвар этого еще не понял. Если бы они сказали: «Нам надоело жить в лагерях беженцев, дайте нам равные гражданские права, нормальное жилье, работу, их можно было бы по-человечески понять, но им, представьте себе, ничего этого не надо, о гражданских правах у палестинцев не было ни одного требования. Они привыкли жить в своих «бантустанах» как свиньи, и согласны жить даже еще хуже в случае захвата власти Хамасом, но вот факт появления Шарона на Храмовой горе для них совершенно нестерпим, мусульманские чувства, видите ли, это оскорбляет, и все не мусульманские «левые» с этими «чувствами» тут же солидарны. Похоже, весь «цивилизованный» мир спит и видит, чтобы разрушить в лице Израиля единственный очаг культуры на Ближнем Востоке.
Итак, я предлагаю обсудить следующие вопросы:
Какая из сторон, по Вашему мнению и по общественному мнению большинства воронежцев, права в арабо-израильском конфликте? Если обе не правы, то в чем именно?
Как Вы относитесь к еврейскому вопросу? (В чем причина и суть конфликта, каковы пути его решения?).
Что такое, по Вашему мнению, антисемитизм? (Дайте определение).
Если посмотреть через Ваш метод «выбора между плохим и очень плохим», то что, по-Вашему, хуже для толпы, просвещенный атеизм или темный религиозный фанатизм?
Как Вы и Ваша конфессия относитесь к Святым местам?
Представляет ли для методистского богословия какой-либо интерес библейская археология, герменевтика (установление древнейшего смысла и толкования священного текста, например, во времена Иисуса многие слова и выражения – «нищие духом» и т. п. – понимали иначе, чем сейчас).
Какое значение для вас (методистов) имеют апокрифы, традиции, предания, труды отцов Церкви, талмудистов, насколько религия может быть национальна?
И наконец, личный вопрос: Вы даже не написали, удалось ли Вам вообще попасть на мой сайт, хотя бы на одну какую-нибудь страницу, а я-то, признаюсь, все же надеялся узнать Ваше мнение, почему не написали и в чем проблема?
С уважением Сергей Баландин.